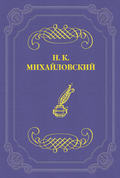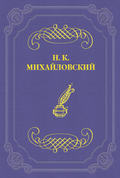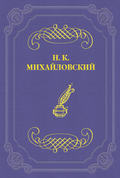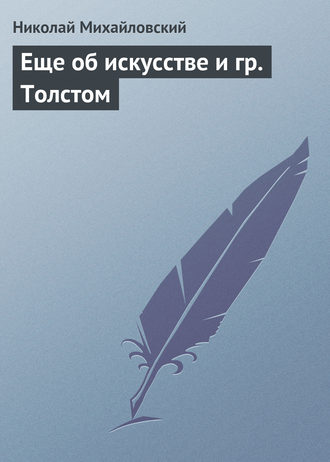
Николай Михайловский
Еще об искусстве и гр. Толстом
«Высшие сословия средних веков по отношению к религии очутились в том же положении, в котором находились образованные римляне перед появлением христианства, то есть не верили более в то, во что верил народ; сами же не имели никакого верования, которое могли бы поставить на место отжившего и потерявшего для них значение языческого учения. И вот среди этих-то людей стало вырастать искусство, расцениваемое уже не по тому, насколько оно выражает чувства, вытекающие из религиозного сознания людей, а только потому, насколько оно красиво; другими словами – насколько оно доставляет наслаждение»
(8–9).
Что искусство Возрождения противопоставляло средневековому аскетическому идеалу наслаждение – это верно, но что оно «расценивалось» только по тому, насколько оно доставляет наслаждение, – неверно, ибо задача его состояла не только в том, чтобы непосредственно давать наслаждение, а и в том, чтобы отстаивать права человека на наслаждение и бороться с противными течениями и, следовательно, внушать очень разнообразные положительные и отрицательные чувства. А кроме того, ведь и тогда, как «всегда», «везде», «у всех», существовало «огромное поле искусства», независимое от религиозного сознания и, по мнению гр. Толстого, «неоцениваемое вовсе», а в действительности, конечно, оцениваемое и не иначе, как по степени даваемого им наслаждения.
С этим гр. Толстой, пожалуй, и согласился бы. Но дело в том, что «для огромного большинства всего рабочего народа наше искусство, недоступное ему по своей дороговизне, чуждо ему еще и по самому содержанию, передавая чувства людей, удаленных от свойственных всему большому человечеству условий трудовой жизни. То, что составляет наслаждение для человека богатых классов, непонятно как наслаждение для рабочего человека и не вызывает в нем никакого чувства или вызывает чувства, совершенно обратные тем, которые оно вызывает у человека праздного и пресыщенного. Так, например, чувства чести, патриотизма, влюбления, составляющие главное содержание теперешнего искусства, вызывают в человеке трудовом только недоумение и презрение или негодование» (21).
Эта тирада крайне интересна как характерное для гр. Толстого загромождение верной мысли совершенно произвольными положениями и противоречиями. Гр. Толстой берет «человека богатых классов» и «рабочего человека» вообще, вне каких бы то ни было других определений. Значит, взаимное непонимание чужих наслаждений есть везде, где существуют богатые классы и рабочие люди. Существуют таковые, например, и в Китае, которому гр. Толстой усваивает, однако, «народное» искусство, то есть не расщепленное на собственно народное и «господское». А между тем, мы знаем, что в китайских романах (есть французские, а может быть, и другие переводы) «влюбление» играет роль ничуть не меньшую, чем в европейском романе. Но Бог с ней, с китайщиной, я не хотел об ней говорить. Гораздо интереснее было бы узнать, почему гр. Толстой полагает, что «чувства чести, патриотизма, влюбления вызывают в трудовом человеке (скажем, русском) только недоумение и презрение или негодование». Свое собственное миросозерцание сегодняшнего дня, миросозерцание совершенно исключительное, гр. Толстой с изумительною и ничем не оправдываемою смелостью приписывает всем «трудовым людям». Слова «честь» и «патриотизм» допускают очень различные толкования, и потому не будем лучше их касаться. Напомню только одно старое сообщение самого гр. Толстого еще из тех времен, когда он не исключительно из себя мудрствовал, а имел уважение к живой жизни, любил ее и любовно наблюдал. Это именно в одной из старых педагогических статей сообщение о том, как крестьянские ребятишки, дети «трудовых людей», а отчасти и сами уже трудовые люди восторгались рассказами о войне 12-го года, в особенности тем именно, что Кутузов наконец «окорачил» Наполеона. «Патриотизм» есть слово очень затасканное и многосмысленное. Гр. Толстой поднялся или считает себя поднявшимся над всеми видами патриотизма на высоту общечеловеческих идеалов и потому закрывает глаза на разнообразные благородные и узкозлобные проявления патриотизма, которых будто бы совсем нет среди «рабочих людей». Точно так же обращается он и с «честью», но опять-таки это слово допускает различные толкования. Нельзя того же сказать о «влюблении» – понятии, казалось бы, слишком ясном, определенном и общечеловеческом, чтобы его можно было перетолковать вкривь и вкось. Гр. Толстой, конечно, давно перестал «влюбляться», да и самую любовь объявил чем-то «неестественным». И вот это свое личное настроение, определяемое частью возрастом, а частью надменным презрением к жизни, он без всяких колебаний навязывает «народу», «рабочим людям». Русский народ (как и всякий другой) распевает множество песен о любви; русский народ сочинил такие даже страшные картины «влюбления», как известные «заговоры на любовь», например: «Как всяк человек не может жить без хлеба, без соли, без питья, без еды, так бы не можно жить рабе Божией (такой-то) без меня раба; сколь тошно жить рыбе на сухом берегу без воды студеной, и сколь тошно младенцу без матери, а матери без дитяти, столь бы тошно было рабе Божией без меня раба» и т. д.; или: «Подите вы, семь ветров буйных, соберите тоски тоскучие со вдов, сирот и маленьких ребят, со всего света белого, понесите к красной девице (такой-то) в ретивое сердце; просеките булатным топором ее ретивое сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, в ее кровь горячую, в печень, в составы, чтобы красная девица тосковала и горевала по таком-то» и т. д. А гр. Толстой хочет нас уверить, что «чувство влюбления вызывает в народе только недоумение или презрение и негодование». И это одно из оснований, по которым народу непонятно наше искусство…
Но народ ведь, по мнению гр. Толстого, и вообще ищет в искусстве не наслаждения, а исключительно чувств, внушаемых религиозным сознанием. Так оно есть теперь, так оно было и для всех русских людей до Петра. Можно подумать, что это пишет какой-нибудь заезжий иностранец, никогда не слыхавший ни одной веселой русской песни, никогда не видавший деревенского хоровода, в котором сочетаются лирика, драма и балет. Что же касается допетровской России, то о каком собственно религиозном сознании как источнике искусства идет речь? Без сомнения, наша иконопись, церковное пение, духовная поэзия, церковная архитектура теснейшим образом связаны с христианским религиозным сознанием в его византийской форме; но, не говоря уже о том, что всем этим не исчерпывается древнерусское искусство, известно, что проповедникам христианского идеала долго пришлось бороться с остатками языческого религиозного сознания. При этом книжники заходили в своих аскетических требованиях далеко за пределы христианского идеала. Владимир «Красное Солнышко» остался в народной памяти не только как просветитель России христианством, но и как человек, любивший жизнь, веселье, наслаждение, искусство – поэзию, пение, музыку. В былинах он, например, так награждает «скомороха»:
За твою игру за великую,
За утехи твои за нежные