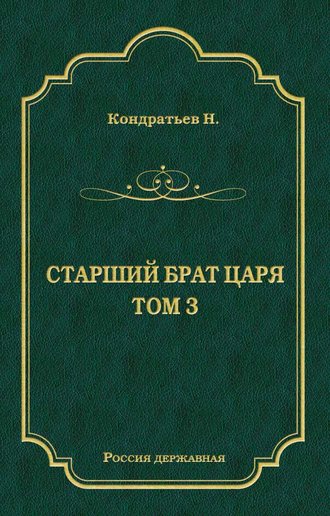
Николай Кондратьев
Лекарь-воевода (части VII и VIII)
Просторная изба Сороки – грошовая гостиница для нищих – кроме печи имела еще широкие скамьи вдоль всех стен и небольшой стол в красном углу, где перед единственным темным ликом неизвестно какой иконы по праздникам горела лампада. В избе за постояльцами закреплялось постоянное место на скамье, за дополнительную плату можно было получить подстилку.
Хозяин, собрав ежедневную дань с гостей, забирался на печку. Туда и на полати он пускал особо почетных гостей. Сорока считался зажиточным мужиком, как-никак, а в месяц заработок не меньше полтины, тогда как на хлебе и квасе с луком можно прожить месяц на пятак, а если добавить кашицу с салом, то на гривенный. Несмотря на богатство, все хозяйство Сороки помещалось в плетневых сенцах – это поленница дров да три снопа ржаной соломы, которая при большом стечении гостей расстилалась на полу.
Сорока дважды в день топил печь. В это время почетные постояльцы могли варить себе хлебово. Клим тоже имел горшок, место на скамье и подстилку.
Клим в Суздале прежде всего посещал храмы, монастыри, только в Ризоположенский девичий монастырь ему проникнуть не удалось. Настоятельница мать Агния в страхе божьем держала свою паству. Особенно ревностно помогала ей сестра Тавифа.
Затем Клим познакомился, а потом и подружился со знахаркой Серафимой, резвой старухой, любительницей бражки и меда хмельного. Он вызвался ей помогать в лекарстве, льстил ей на каждом шагу. Бабка таяла, видела в нем послушного помощника и, самое главное, терпеливого слушателя. От нее он узнал подробности жизни в монастырях, все, что интересовало его об инокине Тавифе, о ее схиме и освобождении от схимы и многое другое. Иной раз Клим удивлялся своему многотерпению. Он не перебивал бабку даже тогда, когда она излагала подробности, от которых ему приходилось краснеть. Терпел потому, что не мог понять до конца историю многолетней схимы Тавифы и надеялся что-либо узнать новое из болтовни знахарки.
Вообще Клим все больше и больше убеждался, что во многом изменился. Научился, например, со спокойной совестью говорить неправду, проще говоря, врать о себе и о своей жизни. Вначале успокаивал, что, мол, ложь во спасение. Теперь он не вмешивался в разговоры, хотя там другой раз говорили по незнанию или умышленно откровенную ересь. Или вот еще – слушает Серафимину дикую мешанину из лжи и правды, да еще поддакивает! Он понимал, что такое поведение как раз и называют житейской мудростью. Это соображение служило хотя и маленьким, но все ж утешением.
А пока время шло. Клим без особой надобности задерживался в Суздале. Он теперь знал о Таисии, что она жива и здорова, монашка и замаливает грехи. И тем не менее не уходил, явно обманывая себя – то непогода, то мороз. А на самом деле он хотел последний раз взглянуть на Таисию, взглянуть и уйти. Такой случай был возможен на Рождество, тогда монастыри организовывали обеды для нищих. В женские монастыри на большие праздники пускали не только старух, но и стариков. Клим ждал Рождества. Но минул праздник, а увидеть Таисию не довелось. Говорили, что в Ризоположенском монастыре сильно захворала игуменья, отменили обед, а собравшихся нищих оделили денежками, чтоб молились о выздоровлении рабы Божьей Агнии.
Теперь нужно ждать Пасхи, нужно было зимовать здесь, в Суздале.
И вот тут на зимний мясоед произошло неприятное событие: Клим поссорился с нищим. По-видимому, его уродство вызывало сочувствие у богомольцев. Стоило ему остановиться на паперти, оперевшись на посох, как тут же к нему направлялись с приношениями либо сердобольные старушки, либо молодки, наполненные радостью жизни. А то подойдет купчина, подаст сребреник и поинтересуется житьем-бытьем.
После одной воскресной обедни, до начала которой Клим уже получил подаяние от молящихся, он вернулся домой. Следом за ним вошел нищий по прозвищу Типун. Это был мужик благочестивого вида. Ходил он с костылем – одна нога у него была на четверть короче другой. Он умел жутко закатывать глаза, а умилившись чем-нибудь, обливался обильными слезами. Клим раньше заметил, что другие нищие боялись его. Однажды он видел, как мальчишка, поводырь слепцов, что-то сделал не по его. Типун хотел ударить мальчишку, но тот попытался убежать. И тут произошло невероятное – Типун, поднял костыль, весь изогнулся и с удивительной ловкостью припустился за мальчишкой, догнал его и избил костылем. Вернулся, как обычно, умело пользуясь костылем, победно улыбаясь.
Теперь Типун вошел в избу, сел на лавку и поманил Клима:
– Подь-ка, разговор есть.
Сидевшие в избе нищие, по-видимому, по тону поняли, что предстоит скандал, разошлись по углам, а один даже вышел из избы. Клим, недоумевая, сел подле него. Типун, искоса взглянув на него, продолжал:
– Нравишься ты богомольцам, хорошо тебе подают. Считал я сей день, ты двугривенный заработал…
Клим с любопытством смотрел на него, не понимая, куда он гнет.
Тот ехидно продолжал:
– А у тебя здорово получается, когда из пустой глазницы слезы льются. У меня и то хуже.
Клим вспомнил: подала ему копеечку девочка, похожая на Веселу, вот он и прослезился. Типун продолжал:
– Давай дружить будем. Ставить тебя на ходовое место буду из трети. Понял?
– Нет.
– Ну и дурак. Сей день тебя в угол не загонял, посмотреть на тебя хотел.
Действительно, в другие дни стоило ему встать, где идут люди, как его сразу же нахально загораживали два-три нищих. Вспомнил и усмехнулся.
– Чему лыбишься, Драный? – повысил голос Типун. – Я – голова нищей братии! Я даю ходовые места! Гони три семитки!
– И не подумаю.
Клим встал и хотел отойти. Но Типун с завидной ловкостью вдруг набросился на него с костылем. Однако ударить ему не удалось, в следующий момент он покатился по полу, а костыль оказался в руке Клима. Тот замахнулся, но сдержал себя – потерявшийся Типун сжался на полу, загородившись руками. Опустив костыль, Клим сказал:
– Эх ты, голова нищей братии! Запомни: я воин, вражеские сабли сделали меня драным. Я ни у кого не прошу, мне подают из-за сочувствия. А ты чего предлагаешь? Эх ты! Следовало бы сломать этот костыль о твою дурью башку! Да уж ладно, на первый раз прощаю. Держи.
Клим отдал костыль опешившему Типуну, а сам как ни в чем не бывало начал мыть горшок, чтобы сварить кашу. Типун поднялся с пола и проковылял к скамье. Кто-то из присутствующих ухмыльнулся, Типун замахнулся костылем, но, поймав взгляд Клима, не ударил.
После этого дня Клим перестал останавливаться на паперти, сразу проходил в храм, не хотел мешать Типуну собирать свою жатву.
11
Неудачно складывалось и знакомство со знахаркой Серафимой. Клим вскоре полностью разочаровался в ее знахарстве. Трав она не знала, лечила кое-как, вместо заговора болтала непонятные слова, даже перевязать рану как следует не умела. Оставалась равнодушной, если больной умирал, – Бог взял, и все. Так и не понял, почему она нравилась больным больше, чем другие знахарки.
Клим начал избегать ее. Она поняла это по-своему: мол, вызнал секреты, и в сторону. Боясь скандала, он продолжал потакать ей, и неожиданно был вознагражден сторицею за долготерпение. Получилось это, когда он сказал, что она один и тот же отвар дала от кашля и от болей желудка. В ответ Серафима уверенно заявила:
– Вылечиваются не от лекарства, а от веры! – Клим собрался резко оборвать, но она опередила его, вздохнув, добавила: – Вот умел бы ты читать…
– Немного умею, – сдерживая себя, ответил он.
– А глаголицу знаешь?
– Учил и глаголицу.
– Во! Раз умеешь, пошли ко мне.
Клим пошел, хотя ничего хорошего от этого посещения не ожидал. В избе, усадив гостя за стол, Серафима достала из-за иконы тетрадь в кожаном переплете, вытерла пыль и подала ему. Открыл он переплет и вскрикнул даже. На первой странице было выведено:

Довольная Серафима подсказывала:
– Вот это и я знаю: мужик мой читал: твердорцы-аз-веди – значит «трав», наш-иже-како-ер, значит «ник», «травник»! Правильно? Но а дальше по складам много не прочтешь, да и буквы я не все знаю.
Не слушая болтовню старухи, Клим листал тетрадь и несказанно радовался – именно этой книги ему и не хватало! А Серафима настойчиво просила:
– …Ты чего, оглох, что ль? Прочти, какие травы от грудной жабы помогают.
Он читал до позднего вечера, читал и на другой день. Знахарка повторяла прочитанное и требовала: прочти то, прочти другое. Он послушно выполнял ее желания и как-то сказал, что будет искать бумагу, чтобы переписать тетрадь себе. Но счастье продолжало улыбаться ему, Серафима предложила:
– А зачем на бумагу тратиться? Бери, отдаю! Я такая – для хорошего человека ничего не жалею!
– Благодарствую, но обманывать не хочу: этой книге цены нет.
– Это ж для того, кто читать умеет. Я к дьячку ходила вот с этим листком. Повертел он его, повертел и говорит: «Мудрено писано. Вроде чернокнижья. Сожги, говорит, бабка, от греха подальше». Верно выходит, цены нет. Бери, сам читай и мне читать будешь.
С этих пор Клим не расставался с «Травником», с этим лечебником дедов и прадедов. Он так дорожил тетрадью, что на внутренней стороне кафтана специально для нее пришил карман.
Время шло. Наступил Великий пост, до Пасхи осталось меньше месяца. Отшумели метели, солнце начало пригревать. Пользуясь установившейся тихой погодой уже сегодня, в субботу, начал съезжаться на базар народ. Клим решил завтра все же постоять на паперти, требовались деньги на новую шапку, старая совсем расползлась. Однако пришлось зиму дохаживать в старой…
В избе Сороки стало известно, что в Спасо-Евфимиевом монастыре скончался благочестивый старец. Сам владыко будет служить панихиду в соборе Рождества Богородицы.
Нищие поднялись ни свет ни заря. Клим задержался, не хотел идти со всеми вместе, а когда пришел в кремль, то Типун поставил всех своих подопечных сплошной стеной, сам со стороны следил за порядком. Климу ничего не оставалось, как пройти в собор.
Служба еще не начиналась, но паникадило уже сияло сотнями свечей. Храм был заполнен темными рядами монахов. Немного продвинувшись среди молящихся, он в изумлении остановился – левую половину собора занимали монашки. Они стояли тремя тесными группами, от трех женских монастырей. Кто же тут из Девичьего монастыря? Клим начал осторожно продвигаться вдоль стены к алтарю, в надежде разглядеть лица монашек, найти среди них Таисию.
И вдруг в сажени от себя увидел ее профиль. Прямой нос, длинные ресницы… Он их узнает из тысячи! Вот она повернулась, перед ним ее лицо! Черный плат закрыл лоб до бровей, тугими складками обрамлял щеки и подбородок. Бледное спокойное лицо, потупленные глаза и скорбно опущенные уголки розовых губ. Господи, ведь это же ее, его губы!.. Забыв обо всем на свете, забыв о своем уродстве, о пропасти, разделявшей их, Клим шагнул к ней… Но будто что-то толкнуло его. Он повернул голову. Около него появилось лицо другой монашки… Настенька! Она в упор смотрела на него, ее глаза все больше и больше раскрывались, а лицо заливала бледность. Она, стремительно загородив рот рукой, подавила крик…
Клим опомнился, еще раз взглянув на Таисию, отпрянул к стене и начал пробираться к выходу. Позади, около алтаря, произошло какое-то движение. Он услыхал шепот: «Упала, упала!»
Из кремля он чуть не бежал. Что он наделал, сумасшедший! Конечно, Настенька узнала его! Это она упала там, в соборе. Пришел конец их душевному покою. Нет, нет, здесь оставаться нельзя!..
Эти мысли подгоняли его. В избе он быстро собрал в суму свой скромный скарб, распрощался с Сорокой, сказав ему, что встретил знакомца и уезжает с ним. Сорока спросил куда, но ответа не разобрал.
Затем Клим направился к Серафиме. Сказал ей, что из Суздаля уезжает с другом, пришел проститься и возвратить «Травник». Серафима ахнула, прослезилась, принялась бегать по избе, собирать в суму калачей, пареную репу, лук и другую снедь, приговаривая:
– Родненький! Как же без тебя буду? С тобой-то мне лепо было, сколько премудрых советов узнала!.. Садись-ка, похлебай щец на дорогу… Когда вернешься-то?
– Не знаю. Скоро не вернусь.
– О, господи! Досада-то какая! Книга-то мне без надобности. Бери себе, пользуйся, меня вспоминай. Да возвращайся скорей.
Машинально Клим поел постные щи, поблагодарил за книгу и вложил в руку обомлевшей Серафиме золотой на память. Заворковала, запричитала она.
Ушел по первой попавшейся дороге, которая убегала на восток. Солнце ярко освещало ему путь, отражаясь в тысячах снежинок, согревая, лаская теплыми лучами его обезображенное лицо. Он шагал и шагал словно в забытьи. Перед ним стояло бледное спокойное лицо Таисии с опущенными веками… Потом всплывало лицо Настеньки в беззвучном крике, охваченное ужасом.
А он все шел и шел. Потухли снежинки, солнце затянули облака, подул ветерок, побежала белыми змейками поземка. Только теперь Клим осознал, что идет неизвестно куда, что солнце на закате и поземка заметает дорогу.
Оглянулся. Кругом бесконечное поле, впереди на далеком горизонте синеет лес. Дорога не очень накатанная, ее заметает поземка. Но заблудиться нельзя – по обочинам вешки. Двинулся вперед.
Наступили сумерки, потемнело небо над приближающимся лесом. Увидел несколько черных точек, движущихся вдоль опушки леса к дороге. Волки! Испытал не страх, а удивление: «Во как! Не погиб от сабель и от стрел врагов, после дыбы остался жив, и вдруг волки! С палкой в одной руке борьба будет короткой. Да может, борьбы вовсе не будет. Устану, присяду отдохнуть, задремлю, и все… Небось сразу за горло…»
Горько усмехнувшись, взял посох покрепче и зашагал вперед.
Настенька не упала, только покачнулась, ее подхватили. Придя в себя, огляделась, нет его. Показалось? Нет, это был он… Только в келье, оставшись вдвоем, Настя рассказала Таисии о видении.
– Вот и сейчас он стоит передо мной. Половина лица его – он, Юрий Васильевич, а с другой стороны – слепец. Шрам синий через все лицо. Нет, нет, не показалось! Одним глазом он так смотрел на тебя! Нет, не плакал. Вот так смотрел… Ну, будто готов схватить тебя и унести…
– Сестричка! Опомнись, что ты говоришь! О, Господи! Прости нас. Это бес тебя смутил! Да еще в Божьем храме. Давай помолимся вместе.
После длительной молитвы пошли к игуменье Агнии, она болела и на панихиде не была. Разумеется, ей рассказали все, кроме видения Настасии.
Вечером бабка Серафима навестила Агнию, принесла валерьянового корня, научила, как настой делать, пояснила, что в древних книгах написано: облегчает боли сердца.
Когда уходила, в сенцах остановила ее Настасия и спросила:
– Бабушка Серафима, ты случайно не видела тут в слободе вроде как нищего. Половина лица у него будто срублена и без глаза?
– Видела, сестричка. Это Клим… – Серафима рада была поговорить об умном, добром, хорошем человеке. Выложила все, что знала, и что он дюже грамотный, по-всякому читает. Умолчала только о подаренном золотом.
Ночью Настенька все услышанное рассказала Таисии. Посмотрели в святцы – день ангела Юрия 23 апреля, тезоименование великомученика Георгия Победоносца, 22-го – апостола Климентия – день рождения Юрия Васильевича! На следующее утро ходили к Сороке. Из всего того, что они услышали, сделали вывод: Юрий Васильевич жив, но крепко изуродован! И как только он понял, что его узнали, бежал. Куда?
Вскоре эта новость стала известна Сургуну, который к Пасхе привез свежего меда.
12
Весна. Разбежались сугробы ручейками, парит земля под солнечным теплом, зазеленела трава на пригорках. День прибывает, прибывает и забот у сестры Тавифы: вместе с келареей Ираидой семена проверяют, на поля ездят, с пахарями договариваются, где с какого бугра пахоту начинать. Старицам указывают, на какие работы и куда вести инокинь. А тут еще игуменью, мать Агнию, хвороба терзает, приходится и ей уделять внимание.
Сегодня, накануне Вознесения Господня (в 1561 году – 15 мая), зашла Тавифа в рукодельную светелку, там с десяток инокинь да белица Настенька вышивали разное на монастырскую потребу. Туда и мать Агнию привели, на людях легче ей. Обрадовалась игуменья Тавифе, попросила Священное Писание почитать, как прощался Иисус со своими учениками и вознесся на небеси.
Агния сидела посреди светелки в кресле, Тавифа у ее ног на скамеечке пристроилась с Евангелием в руках. Чтение прервала старица горбатенькая. Она неслышно вошла и в поклоне ждала, пока игуменья обратит внимание.
– Чего тебе?
– Матрена от владыки иконника привела. Шустрый такой, матушка, мы с ним уже в храме побывали. А Матрена в трапезной.
– Не вовремя… Ну, ладно уж, давай его.
Вошедший иконописец не понравился Агнии. Все как будто по уставу: и перекрестился, и поклонился, и стоит, опустив глаза, скуфейку мнет, а все ж не то. Ростом не вышел, ниже горбатой старицы, конопат, рыж, вместо бороды и усов – ржавый пушок. Никакой солидности! Подрясник монашеский застиран до белесой серости, со следами красок. Не сдержавшись, резко спросила:
– В архиерейской артели все такие?
Иконописец удивленно вскинул голову, но ничего не сказал, даже не взглянул на игуменью. Его взгляд остановился на Тавифе, не поднялся выше, и тут же опустился долу. В дальнейшем разговоре, отвечая на вопросы, он каждый раз поднимал глаза, все с большим интересом рассматривая монашку, сидевшую в ногах у игуменьи.
Горбатая старица поняла, что мать Агния сердится и может выгнать иконописца, поспешила ему на помощь:
– Матушка Агния, Матрена сказывала, что в артели он самый толковый. И опять же скромен и смиренен. Может, позвать Матрену?
– Обойдемся. Сумеешь образы исправить?
– Чего ж не исправить, постараюсь. Только крышу починить надобно.
– Не твоя забота! У кого учился?
– У старца Митрия, во Владимире.
– Митрия знаю, нам он Богоявление писал. Посмотрим, чему научился. – И уже миролюбиво спросила: – Откуда родом-то будешь, звать-то тебя как?
– Кириллой Облупышевым кличут. Из деревни Хлыново, что из-под Броничей…
Долго еще Агния расспрашивала да наставляла иконописца, потом поучала старицу, как нужно следить за его работой. Но сестра Тавифа ничего не слышала этого. Хлыново ведь деревня Юрши, туда она посылала деда Сургуна с письмом… Потом Юрша рассказывал, что книгу о Тульском сражении разрисовывал мальчонка Облупыш! Господи, ведь это тот самый!
После всенощной, вернувшись в свою келью, Настя первая заговорила о Кирилле:
– Боярышня… нет-нет, сестрица, ведь деда мой в Хлыново под Броничи с твоим письмом ходил! – Тавифа молча раздевалась. Настя продолжала: – Этот иконник, может, знал Юрия Васильевича. Интересно, как об нем мужики… – Замолчала, пока молились на ночь. И вновь: – Начнет работать, давай сходим.
Тавифа бесстрастно спросила:
– Зачем?
– Как зачем? Его люди разное могут сказать…
– Узнаешь: любили его, другие ругать примутся. А может, забыли уже… Ну и что?
Молчали долго, возможно, боярышня уснула уже. Поэтому Настя очень тихо сказала:
– Какая-то ты сухая стала. Ничего не касается тебя!
Тавифа не спала, ответила так же тихо:
– Хотела бы, нужно, чтоб не касалось. Я похоронила на Воронеже Юрия Васильевича, а тут себя.
– Господи! Да ведь он жив! Да появись Сереженька, я пошла бы за ним на край света! А ты… Ругала меня, зачем я сказала деду про видение в храме. А ведь дед ведун, помог бы разыскать Юрия Васильевича.
– Иди ко мне, – пригласила Тавифа Настю. Продолжала шептать: – Ладно. Разыскали мы Юрия Васильевича, вот он тут, в Суздале. А дальше что?.. Ну, говори, чего же молчишь?.. Вот то-то, сказать нечего. Может, конечно, Тавифа бежать из монастыря, мало ли девок-расстриг. Он теперь меченый, урод, не атаман, а бродяга-лекарь. Разыскать, поймать нас будет нетрудно. Ему лютая казнь, мне второй побег не простят. Самое малое – монастырский подвал при жизни и вечные муки в аду!.. Нет, Настенька, Таисия свое отлюбила и умерла, – и, всхлипывая, закончила: – А сестра Тавифа – живет для Бога, для монастыря. И, даст Бог, станет старицей Тавифой…
– Боярышня, милая, ты плачешь! Значит…
– Ой, нет, Настенька… Плачу… Оплакиваю горькую судьбу боярышни Таисии и радуюсь светлому пути инокини Тавифы… А Юрий Васильевич, Юрша тоже умер…
– Господи, заживо хоронишь! Грех-то какой!
– Нету, нету его в живых! По свету ходит урод лекарь Клим! И дай Бог ему многих лет жизни! Все перегорит, уляжется. Пройдут годы, и когда-нибудь на росстани пересекутся наши пути, встретимся, поклонимся мы друг другу и разойдемся навечно здесь, на земле. А встретимся в иной, радостной жизни…
Поплакали немного, успокоились, и Тавифа рассказала Насте о хлыновском пареньке Облупыше и распорядилась:
– А встречаться нам с иконником нет нужды. Вдруг Юрий Васильевич ему про боярышню Таисию что рассказывал. Тут до греха один шаг…
* * *
Иконописец Кирилл для мастерской отделил дощатой перегородкой светлый, солнечный угол пустующей храмовой трапезной, вход прикрыл мешковиной. Сюда с подручным Ванчей принесли снятые с иконостаса иконы, попорченные временем и сыростью. Сперва лечили их, вздувшиеся места подклеивали, швы и трещины штукатурили и лишь потом освежали пожухлые краски. Так они сидели в мастерской от зари до зари, изредка перекидываясь словами, чаще напевая песни вполголоса. Если песня ладилась и крепчала, появлялась старица и шипела на них. Она же встречала их по утрам и провожала вечером до ворот монастыря.
И вот однажды мешковина у входа поднялась и в мастерскую вошли двое. Одна из них та самая монашка, которую приметил Кирилла в светелке у игуменьи. На несколько секунд он замер в полуобороте с поднятой кистью…
…Тавифа с Настей принесли икону из божницы игуменьи – с лица Богоматери краска скололась. Образ дорогой, старого письма, серебряный оклад жемчугом и каменьями усыпан. Мать Агния попросила Тавифу отнести к мастеру и досмотреть, чтоб греха не вышло какого…
Придя в себя от изумления, Кирилл взял икону, развернул тряпицу, поставил на верстак. Пока Тавифа объясняла, что требуется сделать, Кирилл не отрываясь с благоговением смотрел на инокиню. Тавифа рассердилась, но постаралась сдержать себя:
– Братец, нелепо так взирать на меня. Осмотри лучше образ, сумеешь ли исправить, не испортишь ли?
– Видел уж, исправим в лучшем виде. Ванча, отдели оклад. Возьмете с собой, а за образом завтра придете. А ты, сестрица, не сердись на меня, не гневайся. Смотрю на тебя… ведь я – лицевщик.
– Не ведаю, кто это.
– У нас, у иконников, лицевщик лики угодников изображает. Вот гляди. – Кирилл быстро повернулся к станку. – Этот образ Иисуса моего наставника, старца Митрия работа. Видишь, на лике его скорбь бескрайняя, горюет он о греховности нашей, и опять же доброта всепрощающая, и ласка, и величие… Ведь каждый рисовальщик может кистью око изобразить, бровь изогнуть, морщинки малые, тени положить. А ведь не каждому дадено на лике изобразить горе и радость, ласку и величие. Таинство это великое, и не каждому оно ведомо. Я вот гляжу на тебя, – Кирилл говорил воодушевленно. Теперь Тавифа с интересом рассматривала его. Неказистый парень, волосы на голове, что ремешком перехвачены, вроде соломы ржавой. Такие же ржавые и брови и веки. А в глазах зеленых искры восхищения и радости. Невольно верилось, что ему подвластны никому не ведомые таинства. А он продолжал: – И вот я гляжу на тебя, сестрица, и вижу многое. И горе большое, и…
Горячую речь иконописца прервало восклицание Насти. Она, вслушиваясь в слова Кирилла, подошла к подручному, чтобы взять снятый оклад. Тут ее взгляд упал на образ Георгия Победоносца. Эту икону она видела много раз, стояла она в левой стороне иконостаса. Икона была незаметная, потемневшая сильно. Теперь же на нее будто упал луч солнца, она сверкала новыми красками. Но вскрикнуть заставило ее другое: с иконы на нее смотрел Юрий Васильевич, каким он приезжал в Тонинскую.
В тот же момент икону разглядела и Тавифа, она побледнела. Кирилл взглянул на одну, на другую женщину и все понял:
– Вы знаете барина нашего, Юрия Васильевича?!. Знаю, знаю, грех великий, но рука сама… Сейчас замажу…
Тавифа подошла ближе, всмотрелась и неожиданно для себя спросила:
– Почему он печальный такой?
– Ведь он же Георгий, а змий – это крымчак. Одного он победил, а сколько осталось! Сейчас я… Ванча, кисть.
– Слушай, Кирилл-иконник, что скажу тебе. – Строгий и внушительный голос Тавифы удивил Настю. – Замазывать не надо, еще больший грех. Его тут никто не знает, поставь образ на место. Но сам и подручный твой – держите язык за зубами. Сам знаешь, чем такое кончится может.
– Спаси Бог тебя, сестрица. Юрий Васильевич мой благодетель. Он денег дал отцу Нефеду, попу нашему, и приказал в учебу определить меня. Век помнить его буду. И тебя, сестрица.
– Меня-то за что? – И, приблизившись к нему, прошептала: – Может, знаешь, где книга, что разукрашивал ты?
– У отца Нефеда, переплели мы ее… – Ответил и только тогда удивился, откуда про книгу монашка знает. А Тавифа погрозила ему пальцем:
– Помни, болтать будешь, великая кара будет тебе и на этом, и на том свете! – Она перекрестилась и ушла.
Больше Кирилл не видел этой монашки, икону игуменьи взяла другая, со старицей приходила. Образ Георгия он поставил на старое место в иконостасе. Этим летом он закончил работы в Суздале, и больше сюда приехать ему не удалось. Инокиню Тавифу он больше не видел, хотя задержался с отъездом на один день и проторчал у ворот Евфимиева монастыря.
Икона Георгия Победоносца сколько-то лет стояла в иконостасе, потом ее заменили Праздником всех святых. Новая игуменья взяла из иконостаса и поставила в киот своей горницы.
13
Село Уводье раскинулось по берегу реки Уводи, и все жители на селе были Уводьевы. Даже поп был из местных, отец Захарий Уводьев. Стояло село посередине дороги между Суздалем и Шуей. Уводьцы всем селом держали извоз. Возили из Шуи холст, шерсть и кожи во Владимир и Суздаль, а обратно – хлеб и все другое, нужное в хозяйстве.
И вот однажды зимним вечером, возвращаясь из Суздаля с зерном, Сазон Уводьев с сыновьями подобрал в лесу до смерти уставшего путника, назвавшегося Климом Акимовым. Привез его в село, поселил у деда Кондрата, и прижился путник, даже известность получил – успешно лечил травами, зубную боль и кровь заговаривал. И не просто так, а с молитвой и крестным знаменем, так что отец Захарий разрешил ему детей грамоте учить. В округе называли его Климом из Уводья.
Четвертое лето жил Клим на реке Уводь. По весне и осенью бродил среди полей и лесов, часто с ребятами из села, собирал травы и коренья разные. Сушил, как указано в «Травнике», и безропотно в ночь-полночь шел лечить каждого – и бедного, и богатого. Охотно принимал приношения и еще охотнее раздавал эти приношения неимущим.
Дед Кондрат жил со своей старухой Маланьей в покосившейся хатенке. Они ласково приняли Клима, а потом привыкли к нему, как к родному. Он помогал им по дому, чинил их развалюху, лечил, разумеется задаром, в свою очередь кормил-поил их. Когда уводьцы ближе узнали Клима, многие предлагали угол в своих домах, но он остался верен деду Кондрату и его бабке.
Казалось, Клим был доволен своей жизнью. Он помогал людям, они оставались благодарны ему. Чего еще ему нужно? Никто не страдал из-за него, никто!
Ему очень хотелось повидать своих в Москве, но он отложил поездку на будущее лето. Суздаль же усилием воли выгнал из своего сознания. Если же в памяти, помимо его желания, возникали запретные картины, Клим прерывал работу, если это случалось днем, если ночью – вставал с постели и молился, клал сотни земных поклонов, пока не доводил себя до изнеможения. Так постепенно добился своего – вытравил воспоминания.
Клим числился аккуратным прихожанином. Каждый год в Великий пост говел и принимал причастие, делал приношения церкви и дружил с отцом Захарием, хотя и не открывал ему своих знаний церковных канонов и Священного Писания. По всему, Клим не мог предполагать с этой стороны каких-то неприятностей. Тем не менее с зимы почувствовал отчуждение Захария. Казалось, все осталось по-старому, но чего-то не хватало. Это что-то всплыло на очередной исповеди. После формального опроса и отпущения грехов Захарий спросил:
– Слушай, Климент, скажи Христа ради, нет ли у тебя какого греха или тайны, которую ты скрываешь от святой церкви?
Клим опешил. Что всплыло? Что известно попу? После секундного молчания ответил вопросом:
– Отче, только что я по совести признался во всех грехах. Спрашивай, в чем подозреваешь меня.
– Ладно, спрошу. Ты пришел к нам нищ и гол. Однако скоро показал Богом данные таланты. Эти таланты могли бы сделать тебя богатым, будь ты в большом городе. Даже в нашей глуши ты стал уважаемым, почетным человеком. Значит, что-то мешает тебе остановиться на глазах власть предержащих и стать известным. Вот первый вопрос: что именно мешает тебе?
– И еще есть вопросы?
– Есть. Отвечай на этот.
– Хорошо. Действительно, после ранения я нищенствовал. Однако такая жизнь претила мне. На смертном одре дал зарок – быть полезным людям, помогать им. А нищий пользуется трудом других. Будучи воином, я присматривался к лекарям. После выздоровления помогал им. Одна знахарка подарила мне «Травник» древнего письма. Теперь я изучаю его и следую его советам. К моей радости, мне удается облегчить страдание других. И это понял я только тут, в Уводье. Я сказал истинную правду, готов целовать крест, отче.
После некоторого раздумья Захарий согласно покивал головой:
– Верю тебе, Климентий. Однако ж в твоих словах гордыня великая. Все мы живем от трудов других, вкладывая и свой труд, и свою молитву. Теперь вот второй вопрос. Я сам много раз убеждался, что ты хороший лекарь, душевный. Мои прихожане понимают это. Но они не понимают, почему ты бессребреник, почему ты раздаешь другим свое приобретение. Кое-чему я их учил, кое-что помнят из Священного Писания. И вот они начинают верить, что ты святой! Понимаешь, что это значит? Живого, грешного человека самовольно причисляют к лику святых! Поминают в своих молитвах. Просят меня, чтобы я молил Бога о здравии праведника Клима. Если дойдет до владыки слух, будто в Уводье появился святой, мне не поверят, что ты воистину праведник. Скажут, проделки лукавого, спаси и помилуй меня, Господи. Лишат сана. Твой «Травник» сожгут, а тебя сошлют, чтоб не смущал православных. Вот так-то. Что скажешь на это?
Теперь задумался Клим…
– Значит, в наше время не может быть праведника? – то ли спросил, то ли ответил он.
Захарий прервал его громким возгласом:
– Гордыня! Великая гордыня обуяла тебя!
– Возможно… Значит, мне нужно уходить отсюда?
– Я тебя не гоню, Климентий. Уважая тебя, говорю – гордыня губит людей.
Они расстались. С этого дня Клим сам никому ничего не давал. Иногда отказывался лишний раз сходить к больному. Бабка Маланья первая заметила изменения и в сердцах сказала, что загордился он. Грустно стало ему – с двух сторон обвиняли в гордыни. Вздохнув, ответил:





