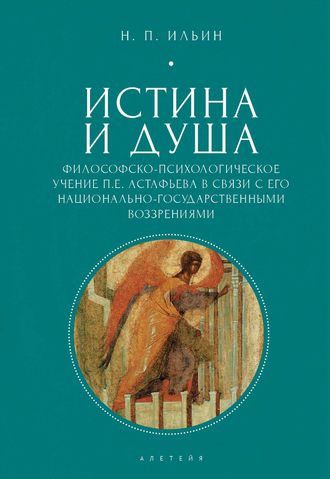
Николай Ильин
Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями
У изменчивости женского настроения, тесно связанной с ускоренным психическим ритмом, есть и положительная сторона, притом весьма существенная. Дело в том, что «быстрая смена впечатлений дает менее поводов к возникновению тягостных чувств»; тем самым разнообразие впечатлений способствует душевному здоровью, делает женщину, в общем и целом, более жизнерадостной, способной «лучше и тоньше наслаждаться жизнью и ценить ее, нежели мужчина, у которого более медленный ритм душевной жизни обусловливает собой и бóльшую массу тягостных чувств, настроение с более серьезным, меланхолическим или даже мрачным оттенком» [22: 67]. Развивая мысль Астафьева, можно сказать, что женщина по природе расположена к оптимизму, тогда как расположенность к пессимизму характерна для мужчины, с его прирожденной склонностью к рефлексии, самоанализу и т.п.
Рассмотрим, наконец, область воли. Принято считать, что мужчина – более волевое существо, чем женщина. Астафьев вносит в это представление существенные поправки. У женщины несомненно есть своя «женственная воля», которая определяется особым характером ее психического ритма, перевесом непосредственной впечатлительности над сознательной работой внимания. Впечатлительность женщины способствует ее более энергичной реакции на всё, что «волнует ее душу». Мышление женщины, «живое и конкретное», тем самым и «более практично, чем у мужчины, более непосредственно стремится выразиться в действии» [22: 68–69]. Астафьев подчеркивает находчивость женщины в ситуациях, где мужчина, «с его более бедной бессознательной жизнью, с его более медленной и сознательной психической работой», долго раздумывает, прежде чем приступить к действию. Но решать сложные задачи, которые требуют долгой предварительной работы мысли, женщина не расположена. Такие задачи не привлекают ее еще и потому, что здесь не очевиден (а часто и очень проблематичен) окончательный успех. «А успех для женщины в гораздо большей мере, чем для мужчины, составляет критерий оценки внутреннего достоинства и людей и начинаний» – замечает Астафьев несколько ниже. Поэтому воля женщины наилучшим (и самым приятным для женщины) образом проявляется «в области непосредственно практической жизни и деятельности, в ежедневном и быстром влиянии лица на лицо». Напротив, «женственная воля», как правило, бездействует «там, где действие рассчитано на очень обширные и сложные группы предметов (например, разнородных лиц; характеров и интересов целого собрания, народа)» и где «самый эффект действия сказывается после долгого сосредоточенного труда», причем никогда не бывает «совершенно очевиден (например, в научной или политической деятельности)» [22: 71]. В приведенной характеристике «женственной воли» особенно важна (в связи с дальнейшем развитием взглядов Астафьева) ее нацеленность на успех, причем на успех наглядный, непосредственно очевидный, тесно связанный с практической жизнью. Только на достижение такого успеха женщина будет охотно тратить свою энергию; только такой успех она искренне ценит и в мужчине.
Заканчивая обозрение основных женских качеств в области мысли, чувства и воли (то есть в области душевной жизни в целом), Астафьев делает необходимое уточнение: «Мы говорим о женщине типической, ничего пока не утверждая о тех женщинах, которые своими стремлениями, задачами и симпатиями более или менее успешно затемнили и исказили в себе самый тип, отклонились от него» [22: 68]. Не удивлюсь, если у читателя возникнет мысль, что обрисованная Астафьевым «типическая женщина» выглядит не настолько симпатичной, чтобы отклонения от этого типа всегда считать его «искажениями» и «затемнениями», с учетом сугубо негативного оттенка этих слов. Разве не очевидны те «отклонения от типа» (например, в сторону более широкого ума, не столь подверженного «капризам» настроения и т.д.), которые были бы на деле просветлением духовного облика женщины?
В связи с высокой вероятностью подобных сомнений уместно отметить следующее. Во-первых, Астафьев не рисовал портрет той «вечной женственности», на которой не лежит «пыль земли» и которую можно встретить только «в царстве мистических грёз», куда имел свободный доступ его современник В. С. Соловьев. Астафьев также не занимался «обличением» женщины в духе Шопенгауэра и Отто Вейнингера (1880–1903), автора знаменитого сочинения «Пол и характер» (1902). Астафьев не воспевал и не обличал, а изучал женщину, то есть решал задачу, которую мы почти никогда не ставим перед собой «в жизни» и которая кажется нам, по известным причинам, какой-то «неправильной» по отношению к женщине. Но только решая эту «неправильную» задачу, мы можем узнать о женщине нечто, что имеет типическое значение; кстати, именно этого знания нередко не хватает «в жизни», где мужчина слишком часто не понимает, что поступки женщины в значительной степени определяются ее родовыми чертами, а не индивидуальными особенностями.
Во-вторых, Астафьев использует (скорее всего, безотчетно) известный литературный прием: обрисовав сначала в основном не самые лучшие черты женщины, вытекающие из ускоренного характера её психического ритма, он затем обращает наше внимание на черты, куда более привлекательные и к тому же общественно важные.
Прежде всего, Астафьев напоминает: самые разные авторы говорят о том, что «в понимании индивидуального, живого, цельного женщина далеко превосходит мужчину» [22: 73]. Восхищение женским чутьем давно стало общим местом; в то же время нередко говорилось «о неспособности женщины к пониманию общего и абстрактного», причем говорилось порою и сторонниками женской эмансипации, вроде упомянутого ранее Миллямладшего. Но, утверждая нечто аналогичное, Астафьев предлагает взглянуть на дело и несколько иначе, подчеркивая не столько неспособность женщины к отвлеченному мышлению, сколько отсутствие у нее интереса к отвлеченным понятиям. Интерес женщины весь сосредоточен на «окружающей действительности <…> во всей ее конкретности, во всей живой целости и во всех индивидуальных оттенках ее явлений». Именно с таким направлением женского интереса связана самая ценная особенность женщины: «чуткая способность угадывать душевные движения тех, с кем она имеет дело». Конечно, эта способность делает женщину во многих случаях «хитрее мужчины», позволяет ей успешно «пользоваться окружающими людьми и характерами для своих целей». Но та же «изумительная способность» позволяет ей «угадывать неожиданные и капризные желания очень маленьких детей, тяжелобольных и дряхлых стариков, перед которыми мужчина тем беспомощнее становится в тупик» [22: 77].
Можно сказать и шире: с «этой чуткой способностью угадывать душевные движения тех, с кем она имеет дело», связано «громадное превосходство» женщины над мужчинами во всех тех сферах жизни, где необходимо обращаться с людьми, как с личностями [22: 79]. Отношение мужчины к другим людям по преимуществу внешнее и прямолинейное: он хочет высказать им ту или иную мысль, заставить их служить той или иной цели, очень часто не принимая в расчет их личных особенностей. Напротив, женщина чувствует, что имеет дело «с моральными, цельными, живыми индивидами», у каждого из которых есть свой собственный внутренний мир. Для женщины характерно умение «угадать другого» и одновременно – умение «сколько нужно дать угадать себя»; а это и есть то, что называется тактом, или деликатностью, считает Астафьев.
Отсюда ясно, что женщина «вообще от природы лучшая воспитательница, чем мужчина, и тем лучшая, чем более нежна и чутка индивидуальность воспитываемого, чем эта индивидуальность менее окрепла, сосредоточилась и замкнулась в себе <…>. Никогда мужчина не поймет так точно, верно и сочувственно всех оттенков характера вверенного его заботам юного существа и никогда не сумеет с такой любовью и так легко приспособить к этим особенностям свои воспитательные средства и приемы, как женщина» [22: 82]. Астафьев особо подчеркивает умение женщины воспитывать легко и непринужденно, не вызывая в воспитаннике «тягостного чувства совершаемого над его “я” насилия». Парадоксальным образом именно «слабая» женщина способна воспитать сильного человека, ибо ее воспитательные приемы «не ломают индивидуальных особенностей ребенка, втискивая их в одну общую, безличную рамку и создавая таким образом бесхарактерных общечеловеков, шаблонных людишек вместо людей» [22: 83]. Заметим: раскрывая роль женщины как воспитательницы, Астафьев одновременно отстаивает педагогический индивидуализм, подчеркивая, что «сильно и живо только индивидуальное, характерное», и осуждая «современное воспитание», которое «стремится стать исключительно общественным, стадовым, обезличивающим», убивающим «внутреннего человека». С точки зрения Астафьева, «противовесом этому злу» может служить только семейное воспитание, которым «руководит женский ум и женский такт».
Однако роль женщины, по мнению Астафьева, не ограничена воспитанием детей, хотя уже одно это имеет огромное культурное значение. Существует и менее очевидная роль женщины в жизни вполне зрелых и притом выдающихся мужчин. Поясняя этот момент, Астафьев напоминает сначала, что женщина «мыслит, менее контролируя свою мысль, менее отчетливо», а значит, и «менее научно». Поэтому «самые преимущества женского мышления могут с успехом проявляться только в сравнительно более узком горизонте», в круге «непосредственно окружающей ее, предлежащей ей и живущей на ее глазах действительности», то есть там, где быстрое понимание индивидуального, конкретного факта важнее, чем понимание «отвлеченного правила, общего отношения, закона». Широкий горизонт является привилегией мужского мышления, не лишенного, тем не менее, недостатков, которые являются, как говорится, продолжением его достоинств. Здесь Астафьев присоединяется к мнению Милля, согласно которому образованные мужчины «легко впадают в непонимание действительных фактов: в них они часто не видят того, чтό в них действительно есть, а видят то, чтó теория заставляет искать в них» [22: 90]. Общеизвестна склонность мужчин к доктринерству, к тому, чтобы «деспотически ломать и вещи и людей для приведения их во что бы то ни стало в согласие с логическими требованиями своей системы», отмечает Астафьев. При этом, считает он, мужской ум не способен исправить себя, следуя своими путями, «путями науки, проповеди, системы». Исправление может осуществиться лишь путем «интимного общения отвлеченного мужского ума с живым и конкретным женским». Более того, Астафьев уверен: едва ли «найдется хотя одно истинно великое и плодотворное произведение ума и чувства», в возникновении которого «не участвовало бы это влияние женщины, отрезвляющее, умеряющее и приводящее отвлеченную мысль к гармонии с действительной жизнью и к пониманию ее правды и права». Однако, добавляет Астафьев, «результат общего труда олицетворяется в мужчине». Именно по этой причине роль женщины в успехах культуры, выходящих за пределы воспитания, несправедливо остается, в значительной степени, анонимной.
Но и там, где, в силу слишком отвлеченного характера мужского творчества, женщина не может быть его сотрудницей, она может играть даже более важную и глубоко положительную роль. История свидетельствует, что гений, который выдвигал не только новую и оригинальную, но еще и резко расходящуюся с господствующими мнениями идею, редко встречал «в течение своей тревожной, исполненной страданий, лишений и неудач жизни» такую женщину, которая понимала и ценила бы эту идею как таковую. Но зато была отнюдь не редкостью женщина, «которая ради веры в его личность верила и в его еще не признанную светом идею» [22: 142]. Такой женщиной, добавляет Астафьев, обычно является мать или жена (вспомним, что именно им он посвятил свою книгу). Женщина верит не в идею, а в «личность носителя оригинальной идеи», и потому не надо требовать от нее понимания идеи, но можно вполне положиться на ее преданность.
Впрочем, время от времени Астафьев не забывает отметить и вытекающие из общего закона отрицательные черты женского характера. В частности, он пишет: «Как женское понимание всегда есть личное и направленное на живые характеры, конкретные единицы, так и всякая борьба, хотя бы даже и чисто литературная, в руках женщины обращается в борьбу личную, обостряется и принимает страстный, некультурный и ненавистный характер» [22: 101]. Убеждение в том, что «цель оправдывает средства», присуще «даже лучшим из женщин», считает Астафьев – и добавляет: «несомненно, что террористкой женщина делается вообще гораздо труднее, но зато и гораздо искреннее и полнее, чем мужчина» [22: 103]. Фигуры типа Софьи Перовской (1853–1881) и Веры Засулич (1849–1919) служат тому подтверждением.
Тем не менее, положительное значение женщины в «экономии жизни» существенно перевешивает все отрицательные стороны женского характера. Уже ближе к концу своего очерка Астафьев выявляет то, что можно назвать, пожалуй, основным культурно-историческим призванием женщины. Как уже неоднократно отмечалось, по сравнению с мужчиной женщина обладает «меньшей способностью и склонностью посвятить свои силы на выработку (обоснование и развитие) отвлеченных начал и идей»; но это вполне компенсируется тем, что женщина проявляет особый интерес «к реализации этих начал и идей в окружающей действительности». Усвоив какое-либо готовое общее начало, женщина стремится – «гораздо цельнее и страстнее мужчины» – к «его непосредственному применению в жизни». Из этого стремления, продолжает Астафьев, «естественно вытекает особенная значимость для женщины реальных воплощений общих начал», «значимость обычаев и нравов. Женщине гораздо сроднее, чем мужчине, страстная привязанность к обычаям и нравам, служение им и ревнивое охранение их. За ней искони признавали значение блюстительницы нравов и видели в этом естественно-консервативном отношении женщины к окружающему строю и порядку жизни даже особенность ее исторического, культурного назначения» [22: 123].
Но Астафьев не согласен видеть в женщине «только консервативную силу жизни». Женщина, отмечает он, не примет «нового начала во имя одних отвлеченных, логических превосходств его». Но там, где в окружающей жизни обнаруживается внутренний разлад между ее насущными интересами и издавна существующими нравами, «женщина гораздо болезненнее мужчины чувствует отсутствие гармонии», «гораздо страстнее его стремится и выйти из этого разлада, а потому является и гораздо восприимчивее мужчины к новому началу, и заинтересованнее его в обновлении нравов» [22: 124]. В силу этого женщина «не только блюстительница, но и вводительница нравов», и в этой двойственности ее назначения нет никакого внутреннего раздвоения, потому что женщина, как верно замечает Астафьев, никогда «не бывает ни прогрессивна, ни консервативна по принципу, в угоду тому или иному теоретическому взгляду <…>, как это нередко случается с мужчинами».
В качестве примера Астафьев рассматривает «падение языческого мира и введение христианства». Ко времени этого падения, на протяжении многих столетий и даже тысячелетий «женщина осуществляет свое историческое призвание», будучи именно хранительницей древних нравов, охраняя домашний очаг, оберегая древние обычаи и верования. Но именно женщина «раньше мужчины поняла несостоятельность древней, преследовавшей исключительно политический (гражданский) идеал цивилизации, мало-помалу утратившей свой смысл по мере того, как развилась, окрепла и выдвинулась вперед со своими новыми требованиями сильная не гражданскою только, но и внутреннею силой и правом моральная личность»; поняла и «всем сердцем отдалась новому началу христианства, возродившему мир». Причем действовала она «не путем создания догматов» и «не путем публичной профессиональной проповеди», «но путем влияний моральных», влияний «своими нравами и примерами, всею созидаемою ею обстановкою семейною и общественною, воспитанием и помощью страждущему человечеству» [22: 128]. Со взглядом Астафьева на роль женщины в эпоху раннего христианства вполне согласен известный русский историк М. С. Корелин (1855–1899), писавший: «Особенную вражду питали к христианству за обращение женщин, которые, отличаясь большею чуткостью и сердечностью, нежели мужчины, принимали новую веру ранее своих мужей, отцов и братьев» [25: 154].
Астафьев приводит еще ряд интересных и достаточно убедительных свидетельств того, как проявляются «в истории и в жизни» основные черты женской психики. В частности, он разъясняет то любопытное обстоятельство, что женщины, не демонстрируя особых успехов в политической жизни тогда, когда им приходится решать ту или иную специальную задачу, могут, однако, с успехом играть роль «государынь и правительниц», то есть представительниц «нации как единой непрерывной, живущей не только настоящим, но и ради прошедшего и будущего исторической личности» [22: 147]. В этой роли женщина решает, собственно говоря, только одну и притом не специальную, но общую задачу: «соблюдение непрерывности жизни народной личности», то есть задачу, созвучную роли женщины как матери, как воспитательницы и как блюстительницы нравов и обычаев.
Обратим внимание, что Астафьев употребляет выражение «народная личность»; это свидетельствует, что влияние классиков славянофильства уже начинает сказываться на его взглядах, тогда как в работе «Монизм или дуализм» он говорил исключительно о личности отдельного человека. Вместе с тем, «народная личность» упомянута здесь мимоходом и повторно мы встретимся с нею еще нескоро.
В заключение Астафьев затрагивает тему, которая станет одной из основных в его последующих работах. Он отмечает – как «едва ли не самую характеристичную черту нашего времени» – сочетание «эвдемонологического пессимизма» [25а] и «эволюционистского оптимизма». Проще говоря, с одной стороны мы все чаще наблюдаем «отрицание всякой ценности действительной жизни и ее действительного строя», «ужасающую легкость отношения ко всему, чтό в этом строе еще дорого и свято», «нигилизм относительно всей существующей культуры». С другой стороны, современный человек захвачен «распаляющими воображение картинами будто бы несомненно ожидающего человечество в будущем состояния блаженства как награды и цели прогресса, эволюции» [22: 153].
Силой, способной на практике противостоять и мертвящему пессимизму, и иллюзорному оптимизму, является, считает Астафьев, «единственно женственная женщина», то есть женщина, не исказившая в себе свой исконный женственный характер. О такой женщине он пишет: «Все свойства ее мысли, воли и чувства одинаково отвращают ее и от серьезного, подтачивающего жизнь пессимизма, и от искренней веры в утопию. Женщина всегда любила, ценила жизнь, и лучше и полнее мужчины наслаждалась ею; она всегда сочувственнее, жизнерадостнее и теплее его относилась к действительности и всегда более его не доверяла отвлеченным благам и отдаленным задачам» [22: 154]. Этот здравый смысл женщины проистекает из того, что она продолжает, вопреки всему, жить «жизнью и интересами внутреннего человека». В современном же мире «болен именно внутренний человек; его-то и нужно освежить, оживить и отрезвить. <…>. Живой и глубокий протест против этой болезни нашего времени – женственная женщина; в ней же поэтому и надежда на исцеление» [22: 156].
На этой высокой ноте Астафьев заканчивает свою книгу, которая так и осталась в русской психологической литературе уникальной попыткой не только понять женщину, но и сформулировать самый принцип понимания – закон психического ритма. Именно этот закон является краеугольным камнем его исследования. Поэтому неудивительно, что, напечатав работу «Психический мир женщины», Астафьев счел необходимым дополнить ее отдельным «очерком теории психического ритма», уже вполне свободным от всего, что не вполне соответствовало «строго научным» намерениям автора. «Я не берусь проповедовать, но стараюсь исследовать» – писал он в кратком предисловии к этому очерку [26: 3]. Тем не менее, вряд ли имеет смысл рассматривать этот очерк особо; на мой взгляд, будет достаточно, при подведении итогов основной работы, учесть те моменты в содержании очерка, которые эту работу дополняют и проясняют.
Переходя к подведению итогов, отметим главный из них с точки зрения дальнейшего развития взглядов Астафьева. Психический мир, мир внутреннего опыта – это, прежде всего, мир сознания. «Стремление жить неотделимо от стремления сознавать свою жизнь, быть сознательным» – подчеркивает он и в только что упомянутой брошюре [26: 48]. Я выделил это утверждение как один из самых устойчивых элементов философско-психологического учения Астафьева. Правда, может показаться, что он не дает определения сознания. Но, как уже отмечалось, на существенную черту сознания он указывает вполне определенно. Сознание – это, в первую очередь, деятельность, создающая из хаотического душевного (психического) субстрата определенные состояния сознания, или «факты сознания». Состояния, факты сознания – вторичны, производны, и производит их сознание как деятельное начало – деятельное и потому созидающее самое себя. Идея самосозидания сознания – глубочайшая идея, высказанная Астафьевым по следам некоторых европейских философов и психологов (прежде всего, Рудольфа Лотце и Германа Ульрици), но высказанная вполне отчетливо, а впоследствии, как мы увидим, существенно углубленная.
Но остановится и спросим: пусть сознание есть деятельность; но как сказать, что такое деятельность? И здесь Астафьев предлагает ясный ответ, идя по следам Лейбница и Мэн де Бирана: коренным элементом всякой деятельности является усилие. Вот то первичное понятие, которое уже невозможно определить через другие понятия, а можно только пережить. В нашей внутренней жизни – в акте внимания, в напряжении мысли и воли – мы переживаем усилие непосредственно, без всяких умозаключений от «существования явления к существованию силы», причем каждый из нас отчетливо переживает усилие именно как свое собственное усилие.
Таковы те основные положения, которые перешли из книги «Психический мир женщины» в дальнейшие работы Астафьева; положения, которые он углублял, разъяснял, дополнял, но от которых он уже никогда не отказывался. Однако эти положения влекли за собою ряд вопросов, на которые Астафьев дает пока только предварительный ответ или вообще оставляет без ответа.
Сейчас мы ограничимся тем, что выделим вопрос о соотношении сознательного и бессознательного в душе человека. С одной стороны, Астафьев предельно сближает жизнь и сознание; порою кажется, что он отождествляет их, что для него сознательная жизнь и есть подлинная жизнь, жизнь как бытие sui generis. С другой стороны, Астафьев, очевидно, признает и «бессознательную жизнь», когда отмечает, например, ее богатство у женщины по сравнению с ее бедностью у мужчины [22: 75–76].
Эти недоумения отчасти разрешает брошюра «Понятие психического ритма». Здесь Астафьев кратко рассматривает возникновение бессознательного из сознательного в результате постепенного превращения ряда сознательных, произвольных действий в действия автоматические, непроизвольные, механические (то есть машинальные) и в этом смысле бессознательные. Прекрасным примером может служить процесс обучения счету, письму, игре «на каком-нибудь инструменте» и т. п. В этом случае постепенно вырабатывается привычка совершать «механически», то есть бессознательно, те действия, которые первоначально совершались только с напряженным сознательным усилием. В результате Астафьев приходит к положению, исключительно важному для последовательного спиритуалиста, хотя и совершенно «нелепому» с точки зрения ходячего материализма. Это положение он формулирует так: «Не сознание из бессознательного <…>, но наоборот бессознательное, автоматичное из сознательного и произвольного, – таков закон психического развития». И чуть ниже, выразив согласие с тем, что «сознание есть у зародыша уже с момента зачатия», Астафьев отмечает: мысль о «нераздельности жизни и сознания», которая означает, что «сознательному и произвольному принадлежит prius пред бессознательным и организованным», «имеет за себя и все факты истории развития и все вероятия» [26: 31–32]. Изучая «историю души», продолжает Астафьев, мы сначала приходим к выводу, что у сознания есть некие «бессознательные основы». Но дальнейшее психологическое исследование убеждает нас, что «эти бессознательные, организованные [27] основы суть накопившиеся результаты (запасы) долгих предшествующих сознательных работ (как это видно на всех приобретенных индивидом и целым родом навыках, инстинктах и т. п.)» [26: 51]. Итак, вопреки ходячим взглядам, сознательное существование первично по отношению к бессознательному. Более глубокое обоснование этого положения Астафьев даст значительно позднее, используя представление о монаде (см. главу 12).
Конечно, к первым работам Астафьева после «возвращения в науку» (как он сам выражался) можно предъявить ряд претензий. Самая серьезная среди них: отсутствие в этих работах тех фундаментальных категорий, без которых никакое учение спиритуалистического характера невозможно, и, прежде всего, категории субъекта, которой он так уверенно оперировал в своей работе «Монизм или дуализм?». Это лишний раз свидетельствует, что за время, прошедшее с тех пор, Астафьев превратился из философа в практически «чистого» (хотя и широко мыслящего) психолога, так что возврат к философии ему еще предстоял – а точнее, предстоял путь к полноценному философско-психологическому образу мыслей.
В заключение необходимо отметить, что установленный Астафьевым закон различия психических ритмов у женщины и мужчины оказался, насколько мне известно, практически невостребованным в современной психологии полов, или так называемой «сексологии». Конечно, понятие ритма в психологии употребляется (неоправданно сближаясь с понятием темпа), но не получает при этом того достаточно прозрачного определения, которое дал ему Астафьев, а потому остается методологически второстепенным. А ведь потенциал этого понятия, при решении столь актуальных сегодня «гендерных» проблем, весьма значителен.
Коснусь одной из них, самой болезненной. Астафьев наметил в своей книге два полюса: типичную «женственную женщину» и, по контрасту, типичного «мужественного мужчину». Тем самым он обосновал самое фундаментальное различие между людьми (ибо именно у людей это различие достигает своего максимума). А это значит, что в области человеческого бытия мы имеем дело не с одной нормой существования, а, по крайней мере, с двумя. То же «нечто», которое лежит где-то в промежутке между этими нормами – в той или иной степени ненормально. Дистанцию между женственной женщиной и мужественным мужчиной следует не «преодолевать», а понимать и почитать. Другими словами, как пишет Астафьев, «в женщине, со всеми ее слабостями и силами, должно чтить не только черты общего типа “человек”, но именно женщину» как особый тип, восполняющий односторонность мужского типа «до одного цельного и прекрасного образа человечности» [22: 60].
Эти слова как бы подводят черту под темой женской души, и действительно, Астафьев к ней больше не возвращался, не «развивал» ее и не «углублял». Почему? Может быть, ответ надо искать в строке А. А. Фета, ценимого Астафьевым выше всех современных ему русских поэтов:
Твоей души мне глубина заветна…




