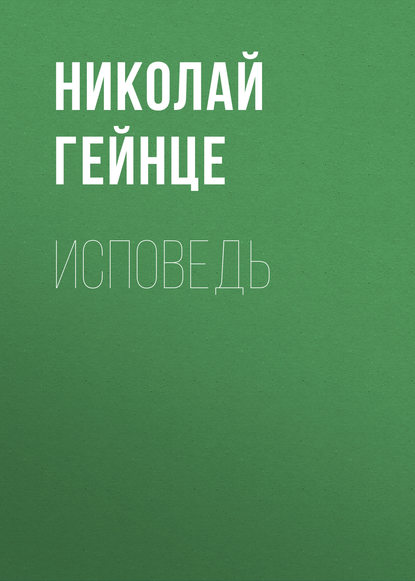Полная версия
Полная версияПолная версия:
Николай Эдуардович Гейнце Князь Тавриды
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Николай Гейнце
Князь Тавриды
Часть первая. Из кельи во дворец
I. В большом театре
На дворе стоял апрель 1791 года.
В этот год весна наступила в Петербурге сравнительно рано и день был почти летний.
Это, впрочем, не помешало театралам-любителям наполнить сверху донизу Большой театр, бывший в столице еще новинкой, так как открытие его состоялось 22 сентября 1784 года, то есть только за семь лет до описываемого нами времени.
В шестом часу вечера уже начался первый акт оперы Гольдини «На луне», и зрители с напряженным вниманием следили за игрой артистов, восхищаясь музыкой знаменитого композитора того времени Паизиэлло.
В эту эпоху спектакли начинались обыкновенно в пять часов вечера и кончались не позднее десятого часа.
На одной из скамеек партера сидел красивый молодой человек в форме гвардейского офицера. Высокого роста, с выразительными темно-синими глазами, с волнистыми светло-каштановыми волосами на голове и на усах, с правильными чертами матово-бледного лица, он невольно обращал на себя взгляды мужчин и женщин с различными, впрочем, выражениями. Во взглядах первых проглядывало беспокойство, у вторых же они загорались желанием.
Надо заметить, что в то время в Большом театре кресел было всего три ряда и садились в них одни старики, важные сановники. В ложах второго яруса можно было видеть старух, с чулками в руках, и стариков – купцов в атласных халатах, окруженных чадами и домочадцами.
Молодой офицер, видимо, недавно находился в столице, так как во время антрактов и даже самого действия с любопытством провинциала осматривал на самом деле великолепно отделанную и освещенную театральную залу.
Вдруг взгляд его остановился на сидевшей одиноко во второй от сцены ложе первого яруса молодой даме. Она была брюнетка лет под тридцать, ее черные волосы прекрасно окаймляли белое лицо, на котором рельефно выделялись розовые губки.
Гармоническое сочетание линий, изящество форм, не исключавшие некоторой полноты – таковы были отличительные черты этой удивительной женщины; дальность расстояния не мешала ему любоваться ею, но он догадывался, что она выиграла еще более, если бы было возможно посмотреть на нее поближе.
Было, пожалуй, несколько заносчивости в этих прелестных глазах, оттененных черными густыми бровями, в складках этого розового и улыбающегося рта; слишком много соблазнительного кокетства обнаруживалось, пожалуй, в ее манере держаться и поправлять складки своего платья, но это утрирование принадлежало именно к числу тех недостатков, в которых можно упрекнуть почти всех хорошеньких, знающих себе цену женщин.
Но странная вещь. Когда глаза молодого офицера остановились на ложе, в которой сидела молодая женщина, ему показалось, что она сделала как бы совершенно незаметное движение удовольствия, тотчас же сдержанное и чуть-чуть кивнула головой.
Это его поразило. Он машинально посмотрел вокруг себя, желая узнать, кому относится этот грациозный кивок, этот мимический разговор незнакомки, но увидел вокруг себя только почтенных старичков, которые ни в каком случае не могли принять на себя проявление чувств красавицы.
Неужели эта тонкая улыбка была предназначена ему? Неужели это он вызвал беглое и мимолетное движение мечтательных глаз, которые затем с очевидною аффектациею то стали обращаться на сцену, то обводить зрителей.
Вся кровь бросилась в голову молодому офицеру. Сначала, впрочем, он этому не поверил, потом невольно поддался мысли о возможности такого внимания.
Самолюбивое чувство укреплялось в его сердце, и когда, к концу второго акта оперы, тот же кивок головой был сделан в третий раз, он храбро отвечал на него таким же кивком и улыбкой.
К каким последствиям все это могло повести? Каким очарованием или каким горем может окончиться это приключение? Каким образом он мог даже продолжать его, совершенно незнакомый с нравами и жизнью Петербурга?
Все эти вопросы лишь на мгновение мелькнули в голове молодого человека, так как когда он самодовольно ответил на последний знак, дама в ложе, видимо, обрадовалась, что ее поняли.
Когда окончился третий акт, молодой человек вышел в коридор взять оставленную шинель.
Капельдинер, который, казалось, кого-то ожидал, быстро приблизился к нему и сунул ему в руку маленький клочок бумаги, сложенной вчетверо.
Молодой человек развернул и прочел написанное наскоро карандашом следующее:
«Приезжайте сегодня вечером, вас ждет карета на площади, в стороне от других. Позвольте, прекрасный мечтатель, отвезти вас туда, куда зовет вас любовь».
Он дважды прочел эту записку и тотчас же решился. Этот «прекрасный мечтатель» совершенно вскружил ему голову. Не долго раздумывая, он победоносно пробрался сквозь густую толпу, наполнившую сени театра, и вышел на площадь, где действительно заметил стоявшую в стороне от других экипажей карету.
Слуга, одетый в черную ливрею, стоял у дверцы. При приближении офицера он отворил ее, подножка опустилась и молодой человек без дальних рассуждений вскочил в карету.
Как только дверцы захлопнулись, молодой офицер почувствовал, что несется к неизбежному, увлекаемый какою-то неизвестною целью – его охватило странное, невыразимое ощущение. Тысячи смутных волнений поочередно сменялись в его душе: беспокойное любопытство, раскаяние в легкомыслии, радостная жажда предстоящей любви, которая, во всяком случае, не могла представляться особенно мрачною, так как была возвещена такими прелестными ручками и такою обольстительною улыбкою.
Была минута, когда ему приходила в голову тревожная мысль; он читал французские романы, где герой женскими интригами вовлекался в водоворот политических действ и подобно ему вдруг похищался в карете, запертой на замок.
Он поторопился спустить оконное стекло.
Оно очень легко действовало на пружинах. Дверцы тоже свободно отворялись.
Случилось то, что обыкновенно случается всегда: видя, что есть возможность уйти, он даже не решился попробовать.
Он начал смотреть по сторонам, на окружающую местность, хотя ему, который только утром в первый раз в жизни прибыл в столицу, эта местность не могла объяснить ничего.
Ехали довольно долго. Проехали мост. Вскоре прекратилась мостовая и колеса экипажа, видимо, врезывались в рыхлую почву.
На дворе почти совершенно стемнело.
Кое-где мелькавшие огоньки в окнах убогих строений указывали на существование людей в проезжаемой местности.
Карета повернула в узкий переулок-тупик и остановилась у решетки, за которой стоял небольшой, но изящный деревянный домик с закрытыми наглухо ставнями.
Лакей спрыгнул с козел. Отворил калитку решетки и затем уже опустил подножку.
В это время, когда молодой человек выходил из экипажа, тот же лакей три раза стукнул в парадную дверь домика и она бесшумно отворилась.
Увлеченный таинственностью приключения, молодой офицер не заметил, что при выходе его из театра вышел и неотступно следивший за ним другой офицер и что другая большая шестиместная карета, запряженная четверкой лошадей, на довольно значительном расстоянии ехала следом за каретой, увозившей счастливого избранника красивой брюнетки.
Когда первая карета повернула в тупой переулок, вторая остановилась на углу.
Молодой человек между тем прошел в сени, вступил в маленькую, темную переднюю, устланную циновками и наполненную цветами; затем, следуя по пятам вертлявой, хорошенькой горничной, очутился в прелестном будуаре, меблированном в греческом вкусе, с обоями на греческий образец, освещенном алебастрового лампою, спускавшеюся с середины потолка, и пропитанном тонким запахом какого-то куренья, которое дымилось из жаровни, поставленной на бронзовом треножнике.
Начало предвещало многое.
Воображение юноши было польщено и очаровано.
Он сел или, лучше сказать, растянулся на изящной кушетке, против камина, в котором искрился блестящий огонек, примешивавший свой свет к лампе, и это двойное освещение распространялось отчасти и на самые отдаленные предметы.
Он обвел глазами всю изящную роскошь окружающей его обстановки и его взгляд, прежде всего, остановился на одном предмете, которого он сначала совсем не приметил: это была небольшая кровать, с шелковыми занавесками, поддерживаемыми позолоченными фигурками амуров; настоящая кровать для кратковременного отдыха какой-нибудь красавицы, внезапно застигнутой припадком мигрени и желающей уединиться во что бы то ни стало.
«Итак, этот будуар служит иногда и спальней!» – мелькнуло в голове молодого офицера, и эта подробность показалась ему имеющей некоторое значение.
Между тем хорошенькая горничная, впустив его в комнату, тихонько удалилась, почти не взглянув на него и лишь сделала отрывистое движение, видимо, означавшее: сидите и ждите.
Он и стал ожидать, осматривая окружающие его предметы.
Вдруг он вздрогнул.
Со стены, противоположной той, у которой стояла заинтересовавшая его кровать, глядел на него из массивной золотой рамы презрительно-властный, знакомый в то время всей России взгляд голубых глаз.
С большого, прекрасно нарисованного масляными красками портрета смотрел на него, как живой, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический.
Молодой человек задрожал.
Кроме вообще в то время магической силы этого имени с ним у сидевшего в изящном будуаре прелестной незнакомки офицера были особые, личные, таинственные связи.
По желанию светлейшего князя, он с поля военных действий из армейского полка был переведен в гвардию и послан в Петербург.
Приехав сегодня утром, он не замедлил явиться в Таврический дворец, но прием его светлейшим был отложен до завтра.
– Пусть погуляет, оглядится… – вынес ему милостивое слово князя докладывавший о нем адъютант.
Он воспользовался этим и поехал в театр.
И вот…
Все это мгновенно пронеслось в отуманенной голове вытянувшегося в струнку перед портретом всесильного Потемкина молодого офицера.
II. Двойник
Явственно донесшийся до молодого человека разговор из соседней комнаты, отделенной от будуара, видимо, лишь тонкою перегородкою, вывел его из оцепенения.
– Катя, он еще там?
– Да, Калисфения Николаевна, вот уже с час как он ждет, хорошо еще, что я затопила камин.
– Я не виновата… Меня задержали в театре… Как нарочно, явились на поклон… и я уехала почти последняя… А знаешь, с моей стороны это ужасная смелость… Что если узнает князь…
Молодой человек инстинктивно посмотрел на портрет.
– Но он такой прелестный, и к тому же еще никого я так страстно не любила… Вот мое единственное извинение… – продолжал голос.
«Неужели я так прелестен?» – самодовольно подумал молодой офицер.
– Послушай, Катя, мне надоело ждать. Убери здесь все, я переоденусь сама и приведи его сюда.
Он мигом вскочил. Сердце его сильно билось.
Нельзя не сознаться, что положение его было действительно довольно щекотливое.
Он сделал шаг к дверям, из-за которых слышались голоса.
Они отворились. На их пороге показалась Катя, и, посторонившись, пропустила молодого человека.
Он храбро вошел в другую комнату.
В изящном кабинете, отделанном точно также в греческом вкусе, перед туалетом, на котором стояло зеркало, поддерживаемое двумя бронзовыми лебедями с золоченными головками, сидела прелестная незнакомка и снимала с головы какой-то убор.
Заметив отражение вошедшего в зеркале, она вскочила и бросилась к нему с ловкостью газели.
Он почувствовал страстные, благоухающие объятия, кровь бросилась ему в голову; потом вдруг, порывистым, нервным, неожиданным, необъяснимым движением, он был отброшен, чуть не опрокинут, – отброшен этою прелестною женщиною, которой знойное дыхание он еще чувствовал на своем лице.
– Боже мой! – воскликнула она с неподдельным выражением удивления и ужаса и упала навзничь на стоявший вблизи диван.
На крик своей барышни в кабинет вбежала Катя и, ничего не понимая в происшедшем, с недоумением глядела на обоих, как бы спрашивая, что это значит?
– Боже мой! – вскричала она, в свою очередь.
– Но что все это значит? – воскликнул наконец, придя в себя, молодой человек, задыхаясь от волнения.
– Я… я ничего не могу сказать… Но, наверное, это не вы.
– Как это… не я?
– Вам лучше знать…
– Знать! Да ведь тут легко сойти с ума. Что это, комедия или мистификация?
В эту минуту прелестная хозяйка сделала жест горничной и та поспешила к ней.
Обе женщины с минуту разговаривали шепотом.
– Ради Бога, – обратилась Катя к молодому офицеру, – войдите туда.
Она указала ему рукой на дверь будуара.
Потерянный, ошеломленный всем, что случилось с ним в этот вечер, он машинально повиновался и вошел в будуар.
За ним послышался звук запираемого замка.
Совершенно уничтоженный, молодой человек упал на кушетку.
Прошло несколько минут, и он не успел еще привести в порядок своих мыслей, выделить их из того хаоса, в который они были погружены и придать им некоторую стройность, последовательность и определенность, как в кабинете снова заговорили, вероятно, не подозревая, что перегородка была чересчур тонка.
– Какое ужасное приключение! Как я несчастна! Какое необычайное сходство… Что делать? Я теряю голову! Как выпроводить его отсюда… Теперь уже ночь… – говорила барыня.
– Успокойтесь, Калисфения Николаевна, я сейчас поговорю с ним… И что же, что теперь ночь… Он не маленький… офицер, – отвечала горничная.
– Подожди… не лучше ли написать ему несколько извинительных слов… Ведь он, кажется, молод, в нем должна быть известная доля деликатности; он не захочет с досады погубить меня, да и к тому же на самом деле издали можно было ошибиться…
– Еще бы, я первая попалась бы впросак; но все равно, – издали или вблизи, это совсем не одно и то же…
– Увы! Я сама очень хорошо вижу! А этот! Где же он и что он думает!
«Итак, это была ошибка!» – с отчаянием подумал молодой человек и вскочил с кушетки.
Взгляд его упал на портрет светлейшего. Он, казалось ему, насмешливо улыбался.
Вошла Катя, держа в руках записку. Она была написана наскоро, без подписи и заключала в себе следующее:
«Простите ли вы меня за ночное путешествие, которое я совершенно невольно заставила вас совершить, и за то, которое вам еще предстоит? Ваше сходство с одним из моих родственников, который должен был сегодня приехать ко мне, сделало все это. Мое непростительное легкомыслие довершило остальное. Умоляю вас, забудьте все, но особенно не сердитесь на меня за неприятность, которую я вам сделала. Клянусь вам, что для меня это гораздо хуже, нежели для вас, и вы должны мне поверить».
– Я сейчас выпущу вас, только достану ключ! – сказала Катя и вышла.
Молодой человек хотел отвечать на прочтенную записку несколькими словами, исполненными чувства оскорбленного достоинства и начал искать перо и чернила на письменном столе. Вдруг ему попался под руку небольшой бархатный футляр.
Инстинктивно он открыл его.
В нем оказался портрет-миниатюра.
Молодой человек остолбенел. Это был его собственный портрет, или же портрет его двойника.
На нем был изображен гвардейский офицер, черты которого были странным образом поразительно похожи на его собственные, в чем он мог как нельзя лучше удостовериться, приблизившись к большому зеркалу.
Тот же овал, те же линии, но с некоторыми оттенками, которые, впрочем, было весьма трудно заметить.
Он в недоумении положил портрет обратно и беспомощно обвел глазами будуар.
Взгляд его снова остановился на портрете светлейшего князя Таврического.
Ему снова показалось, что этот всесильный красавец насмешливо улыбается углами своего надменного рта.
– Пожалуйте! – вывела из столбняка молодого человека вошедшая с ключом Катя.
Он машинально последовал за нею.
Насмешливый взгляд Потемкина, казалось, провожал его, он чувствовал его на себе.
Катя вывела его из подъезда и проводила до калитки, которую и заперла за ним.
Молодой человек очутился один среди темного и пустынного переулка.
Он на минуту остановился, как бы для того, чтобы собраться с мыслями, затем твердою походкою пошел по деревянным доскам, заменяющим тротуар.
Он решил идти наугад, так как совершенно не знал ни местности, где он находится, да, впрочем, и это знание мало бы помогло ему, так как уже известно читателям, он был в Петербурге первый день.
«Будь что будет! Я поброжу по улицам до утра, а там спрошу дорогу в город, на Ямскую…» – думал он.
Не успел он сделать однако и двадцати шагов, как двое людей загородили ему дорогу, и перед ним выросла какая-то черная масса, оказавшаяся каретой, запряженной четверкой.
– Князь Святозаров, именем светлейшего князя Григория Александровича, прошу вас следовать за мной! – сказал грудной приятный голос.
– Князь Святозаров! Вы ошиблись, господа! – сказал молодой человек, придя в себя от неожиданной встречи.
– Ваши уловки не помогут… Нам известно, что вы князь Святозаров, и его светлость требуют вас к себе…
– Повторяю, господа, вы ошибаетесь, моя фамилия Петровский Владимир Андреевич… – возразил было молодой человек.
– Повторяю, что мы осведомлены лучше вас…
– Не заставляйте, господин офицер, совершать над вами насилие офицеру при исполнении им служебных обязанностей, прошу вас безоговорочно садиться в карету.
Один из стоявших перед ним вынул из-под полы шинели потайной фонарь и осветил его и себя.
Наш ночной путешественник действительно увидел перед собою человека в военной форме, жестом приглашавшего его в открытую дверцу кареты, у которой стоял ливрейный лакей.
– Именем светлейшего князя Григория Александровича прошу вас, ваше сиятельство.
Молодой человек послушно взобрался на подножку и скорее упал, нежели сел в угол кареты. За ним вошел его спутник и уселся рядом.
Подножку подняли, дверца захлопнулась и карета покатилась по рыхлой, немощеной улице.
Несчастный молодой человек некоторое время сидел с закрытыми глазами, без дум, без мыслей.
Приключение первого вечера в столице сбило его окончательно с толку.
Экипаж выехал на замощенные улицы и шум колес о камни вывел его из оцепенения. Не открывая глаз, он начал соображать.
Кто этот князь Святозаров, за которого его принимают?
Не тот ли, который изображен там на миниатюре, сходство с которым заставило его совершить это ночное путешествие на окраину города, пережить столько сладостных надежд и такое горькое разочарование.
За этим князем Святозаровым следят по приказанию светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, портрет которого красуется на видном месте в этом волшебном будуаре-спальне.
В этом должна быть несомненная связь.
Мысли молодого человека перенеслись на князя Потемкина, которого он видел лишь издали, но который играл несомненно какую-то роль в его судьбе.
Владимир Андреевич припомнил свое детство в Смоленске, в доме родственников светлейшего. Он был воспитанником-приемышем. Кто были его родители – он не знал. Затем он был отправлен в Москву в университетскую гимназию, откуда вышел в военную службу в один из армейских полков и прямо отправился на театр войны с Турцией. Неожиданно, с месяц, с два тому назад, он был отозван из своего полка и переведен в гвардию с командировкою в Петербург, в распоряжение светлейшего князя, генерал-фельдмаршала.
Что могло все это значить?
Эти вопросы жгли мозг молодого человека, но, увы, оставались без ответа.
Вдруг карета остановилась.
Владимир Андреевич открыл глаза и, несмотря на темноту, различил из окна кареты величественное здание Таврического дворца.
III. В Таврическом дворце
Таврический дворец, один из многочисленных памятников блестящего царствования Екатерины II, до сих пор почти в неизмененном виде сохранившийся на Воскресенском проспекте, с тем же обширным садом, прудами, островками, каскадами и беседками, два раза во время жизни светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического находился в его владении.
Первоначально оно было построено князем в виде небольшого домика, но после присоединения Крыма, по приказанию императрицы, архитектор Старов на месте прежнего дома построил роскошный дворец, наподобие Пантеона.
Императрица назвала его Таврическим и подарила великолепному «князю Тавриды», как называли тогда не только в России, но и в Европе, увенчанного лаврами военных побед Потемкина.
Главное здание дворца было вышиной около шести сажень, с высоким куполом и перистилем из шести колонн, поддерживающих фронтон.
К обеим сторонам дворца пристроены флигеля, выведенные до самой улицы. Обширная площадь перед дворцом ограждена невысокою чугунною решеткою.
Внутреннее расположение дворца, вместе с пространством между обоими флигелями, представляет одну огромную залу, в середине освещенную окном, сделанным в куполе; два ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид.
В одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой стороне зимний сад.
Вскоре, однако, князь Потемкин продал этот дворец императрице Екатерине II за 460 000 рублей.
Незадолго до начала нашего рассказа, а именно в феврале 1791 года, императрица снова подарила этот дворец князю Григорию Александровичу, в числе многочисленных милостей и наград, которыми она осыпала его, прибывшего из Ясс с новыми победными лаврами.
В тот самый день и час, когда знакомый уже нам Владимир Андреевич Петровский, только что прибывший в Петербург и явившийся к светлейшему, но не допущенный к нему и получивший через адъютанта милостивое «пусть погуляет», начал в Петербурге так печально окончившиеся столичные похождения, сам Григорий Александрович готовился к выезду во дворец.
Высокий, пожилой – Потемкину в то время перевалило за пятьдесят – широкоплечий богатырь, в ярком мундире, обшитом сплошь золотым шитьем, с широкой грудью, покрытой рядом звезд и крестов, русских и иноземных, он уже вышел из кабинета.
Всякий, видавший светлейшего в первый раз, невольно преклонялся перед этим совершенством человеческой телесной красоты: продолговатое, красивое, белое лицо, правильный нос, высокоочерченые брови и голубые глаза, небольшой рот с приятной улыбкой и круглый подбородок с ямочкой.
Левый окривевший глаз был неподвижен и являлся резким контрастом с правым, полным жизни, светлым, зорким и несколько рассеянным.
Князь окривел в начале своей придворной карьеры, по милости тогдашнего всезнайки фельдшера академии художеств Ерофеича, изобретателя известной настойки, приложившего к больному глазу Григория Александровича какую-то примочку.
На князя потеря глаза до того сильно подействовала, что он удалился в Невскую лавру, отпустил бороду, надел рясу и стал готовиться к поступлению в монашество.
Его спасли прозорливость и доброта императрицы.
Она сама лично навестила его и уговорила возвратиться в мир:
«Тебе не архиреем быть, их у меня довольно, а Потемкин один, и ждет его иная стезя».
Предсказание монархини сбылось.
Светлейший шел уже к парадной лестнице своей неуклюжей, перевалистой походкой, простой, не сановитой и неделаной, производившей особое впечатление.
«Весь залитый золотом да орденами и регалиями; в каменьях самоцветных и алмазах, и так шагает по-медвежьи», – говорили современники.
Ряды придворных светлейшего блестящей живой изгородью тянулись от зала до подъезда.
Князя сопровождал его приближенный секретарь, Василий Степанович Попов.
Это был подвижный человек, лет сорока семи, среднего роста, с добродушно-хитрым татарским выражением лица. Уроженец Казани, он учился в тамошней гимназии и начал службу в канцелярии графа Панина в первую турецкую войну, перешел потом к московскому главнокомандующему князю Долгорукову-Крымскому, который назначил его правителем своей канцелярии и выхлопотал чин премьер-майора.
После смерти Долгорукова, Попов, успевший сделаться известным Потемкину, как способный, трудолюбивый и деятельный чиновник, был взят им в правители своей канцелярии и скоро снискал неограниченное доверие князя.
Ко времени нашего рассказа он уже был генерал-майором орденов до Владимира I степени включительно.
Ряд придворных почтительно преклонялся перед шедшим властелином, который был, видимо, в самом лучшем настроении духа, но все с недоумением смотрели на голову вельможи.
Голова эта была светлорусая, в природных завитках, без пудры, которая считалась необходимой при дворе.
Этим-то и объяснялось недоумение окружающих.
Никто не решился, однако, заметить об этом светлейшему.
Один из стоявших адъютантов князя шепнул на ходу об этом Попову.