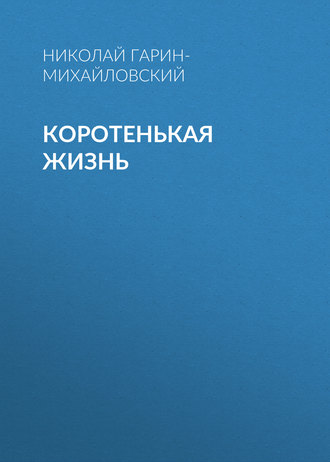
Николай Гарин-Михайловский
Коротенькая жизнь
Ну, опять увлёкся… приехал я в лес, бросил вожжи, лошадь смирная, и пошёл к родникам. Чистка родников заключалась в том, что рылись ямы аршина в два с половиной и запускался в них сруб. Около одной из таких ям без сруба я, рассматривая, слишком близко подошёл к краю и по свежей грязи не удержался и съехал в яму, Ну, съехал, что за беда: не колодезь – голова уровень с краями. Это было первое ощущение. Но когда я принялся выкарабкиваться, оказалось, что беда и большая беда: не могу выбраться. Смешно, вижу глазами землю, лес, протянуть руку только, чтобы ухватиться… Но ухватиться-то и не за что: кругом скользкая грязь, и лезет она вместе с рукою назад. Одного усилия руками и ногой достаточно бы, но рука и нога скользят. Какое бы нибудь дерево поближе: дразнят там, а здесь ни одного. В шубе – устал. Побился, побился, остановился и думаю: что же мне делать теперь?
Тишина мёртвая в лесу, только ветки где-то трещат от мороза. Крикнуть? Кто услышит? Хоть бы лошадь ушла домой, но и лошадь такая, что хоть до утра будет ждать. Если и дома хватятся: где искать? Проехал так, что никто и не видал. А внизу вода. Чувствую, что она начинает просачиваться сквозь валенки… Плохо. Думаю: ведь это смерть подходит. Шутка сказать! А до утра никто не заглянет. Кажется мне, что я уже зябну, и чувствую, что нервная дрожь добирается и до зубов. Хоть бы воришка какой-нибудь в лес заглянул: озолотил бы. Страшно, как подумаю, что смерть подходит, так всё и забьётся во мне, и готов и выть, и метаться, и опять сознание своего бессилия как ледяной водой окатит… вспотел весь… вспотел и стыну. Серьёзно говорю, что никогда в жизни и при том в такой комичной обстановке я не был так близок от смерти. И если бы не Дюк – я замёрз бы. Сперва я на него и внимания не обращал, но вдруг привлёк меня его громадный ошейник, прежний ошейник, который теперь болтался на худой шее и резал глаза контрастом. С помощью этого ошейника я и решился спастись. Новая беда: зову я Дюка, а он не идёт. Бегает, визжит, хвостом машет, а не идёт: не верит мне – отвык. Каких-каких самых нежных названий я не надавал ему. Как мягко ласково уговаривал. Да, пришлось-таки повозиться, пока опять восстановились наши прежние отношения, и он, наконец, подошёл настолько близко, что я мог хватить его за ошейник. Он поздно было рванулся, но это мне и надо было: держась двумя руками за ошейник, опираясь ногой в стену ямы, я начал выбираться. И по мере того, как я выбирался, Дюк, пятясь от меня, тем самым тащил… тащил жалкий худой, меня – громадную тушу, особенно в шубе. Я вылез, и можете себе представить, он понял свою услугу. Надо было его видеть. Его восторг не имел границ. Он бросался мне на грудь, лаял и визжал и опять бросался и лизнул таки своей грязной мордой прямо в губы меня… Через десять минут я уже опять был у окна своей освещённой столовой. Когда я сидел там в яме, мне всё представлялась эта мирная картина ожидания меня: долго пришлось бы ждать. Тревога уже поднялась: дворня была на ногах, ведь было 7 часов, я два часа пробыл в лесу. Дюк, как только отворилась дверь, первый влетел в комнату, вихрем пронёсся в кабинет прямо на кушетку. Пока я, щёлкая зубами, рассказывал жене о том, что случилось со мной, он лежал на кушетке, высоко подняв голову, и отбивал своим хвостом такт: очевидно, он вторично переживал удовольствие и сознание, что теперь его не прогонят с кушетки. Этот вечер он там и провёл, я кормил его отборными кусками… Скоро пришлось мне со всей семьёй уехать из деревни, и возвратились мы только весной.
Без нас Дюк сдох. Говорили, что он опять убегал и нашли уже его где-то во рву. Я узнал потом; просто не кормили, и бедняга сдох от голоду… Жалко было бедную собаку: так пропала… и я часто вспоминал её… Сыну тогда восьмой год уж пошёл и уже принялись за его обучение; но ученье на первых порах не спорилось. Мальчик был очень способный, но небрежно смотрел на дело. Однажды вот в этой самой комнате я решил подтянуть франта. У меня в моей системе воспитания не только наказаний, но и резких слов не было. Всё основано было прежде всего на любви, а затем на работе его головы, на рассуждении, на логике, на доводах… Ну вот, как довод, я ему и привёл этого самого Дюка, – как доказательство того, что и с задатками можно ни за грош пропасть. Мальчик слушал меня рассеянно, вертел всё время мой палец и, когда я кончил, с какой-то своеобразной детской логикой сделал свой вывод:
– Папа!
Это папа он всегда говорил напряжённо и звонко.
– Папа! А Ломоносов тоже был из мужиков?
– Отчего ты вспомнил о Ломоносове? – спросил я.
Он рассеянно ответил:
– Так…
И опять, сосредоточившись на своей мысли, озабоченно, сильнее крутя мой палец, проговорил:







