 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Мои скитания
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
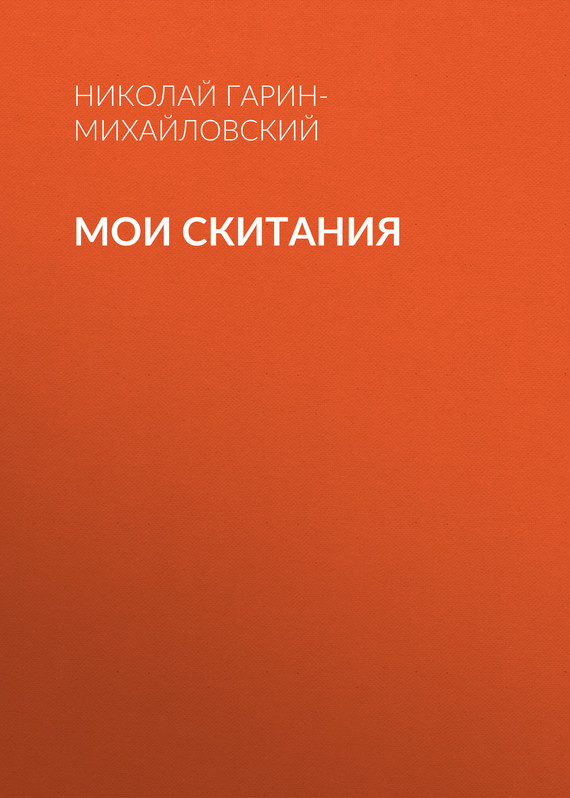
Николай Гарин-Михайловский
Мои скитания
I
Там, где сплошные необозримые леса без жилья укрыли землю и шумят в непогоду, как море в бурю; где рыщут в них волки, рыси, лисицы, барсуки – все питающиеся за счет все того же всеотдувающегося зайца; где царит неповоротливый с виду Мишка; там, где протекает Керженец, где снились чудные сказки Печерскому, – короче, в лесах и дебрях Костромской губернии я делал недавно изыскания.
Редкие деревушки, попадавшиеся на пути и ни на каких картах не значащиеся, – деревушки, сообщение с которыми поддерживается только по зимам, или каким-нибудь кружным на сотни верст водным путем, – были поистине в идеальных условиях опрощения и для исследователя капитального вопроса наших дней: что больше развращает человечество, культура или некультура, – предоставляли богатый материал.
В одну из таких деревень я попал однажды под вечер, когда золотившаяся пыль вечернего солнца осыпала лес и он светился на синем фоне неба, как прозрачный, а в воздухе было тихо и чирикала звонко какая-то птичка; кавалькада человек тридцать, нас, изыскателей, появилась вдруг невидимо откуда на опушке леса перед маленькой деревушкой, лениво раскинувшейся между обгорелыми пнями с кое-как выпаханными между ними кулигами.
Наше появление не замедлило обратить на себя внимание обитателей. Первыми бежали ребятишки и девчонки, за ними более взрослые, вплоть до самых ветхих стариков. Таких стариков в городах не встретишь.
Вся толпа, сбившись у изгороди, смотрела на странное, невиданное зрелище.
Было на что посмотреть!
Впереди ехали мы, – старшие, в наших американских с двумя козырьками шляпах, с револьверами за поясом, в самых разнообразных костюмах. За нами следовали волокуши. Это – две оглобли с перекладинкой посреди, на которую кладутся вещи; в оглобли впрягается лошадь, на лошадь садится кучер, и такой экипаж, только такой, может безнаказанно прыгать с пенька на пенек той просеки, которая прорубается для него и для линии. Наконец, сзади этих волокуш шло пешее войско с соответственным вооружением: высокие рейки колыхались, как знамена; вешки, как пики; нивелиры, теодолиты и гониометры, звук цепей…
Больший контраст культуры и некультуры трудно было и представить, с одной стороны, пионеры последней цивилизации, с другой – типы, некоторым образом, первобытных времен, внуки Даждь-бога, окруженные своими болотами, лешими и русалками. И все это на прекрасном вечернем фоне догорающего дня, тишины, аромата, безмятежного синего неба с освещенными облаками, такими же причудливыми, как и везде, – где-нибудь в Париже или на южном берегу Крыма…
Но здесь глушь, тайга, сырость и комары, и лес, как кладовая старого скряги, таит в себе больше негодного хлама, веками гниющего, чем полезного строевого материала. Пройдут века, и, конечно, культурный обильный лес сменит этот хлам веков, но пока это только хлам, и мы в нем, изъеденные комарами, слепнями, оводами, мошкарой. И так отдыхает взгляд после недельного перехода даже на таком слабом намеке на поле, как это, которое с обгорелыми пнями расстилается теперь перед нами.
Некультурная сила, в лице девчонок и ребятишек, дрогнула и пустилась в бегство при нашем приближении. Впрочем, в позах взрослых было столько сомнения, что сделай наши рабочие какой-нибудь воинственный звук, и вся толпа обратилась бы в такое же бегство. Также бывало и раньше, но с тех пор был отдан раз навсегда строжайший приказ – не ставить вперед местное население в унизительное для него положение. И вот рабочие, несмотря на величайший соблазн и охватившую их радость при виде жилья, двигаются молча, а бородатые представители здешних мест и грязные, неряшливые представительницы без головных повязок, в синих пестрядинных сарафанах, продолжают смотреть, вот-вот готовые бежать без оглядки.
Мы ровняемся, и крестьяне торопливо стаскивают свои домашней работы шляпы, а бабы так и замерли, впившись в нас глазами.
– Как называется деревня? – бросаю я с высоты своего рослого коня.
– Светленькая, – раздается несколько человеческих старческих голосов.
Некоторые из парней с удивлением смотрят в лица крикнувших ответ, – может быть, и для них новость, что деревня называется «Светленькой».
Впечатление дикости этой толпы так в нас велико, что в первое мгновение во мне является что-то вроде удивления по поводу того, что я слышу членораздельную речь.
– Здравствуйте, старики!
– Здравствуйте и вы!
– В гости приглашайте!
Молчание.
– А что же? – лепечет какой-то. ветхий-преветхий маленький старик, – коли не супостаты да со знаменьем божиим – милости просим.
Мой помощник, черногорец, инженер, пренебрежительно, без рассуждения берет тон человека, привыкшего властвовать.
– Староста где?
Черногорец невысокого мнения о моем умении авторитетно поставить себя; он считает, что я удивительный мастер распускать всех, не исключая и его.
Я в свою очередь невысокого мнения о его уменье: быть грубым, вспыльчивым, грозить то и дело дать в морду, а иногда переходить и от слова к делу – приемы плохого унтер-офицера или бурбона из кантонистов. Но он талантлив, прекрасно знает свое дело, любит его, неутомим в работе и следовательно вполне годится для своей роли – пионера последней цивилизации. Иногда он бесцеремонно, с клокотанием и болью Отелло, раздраженно машет рукой и с налившимися глазами рычит на меня:
– Вы, Николай Георгич, ей-богу, как… бить их надо!..
– Послушайте, даже обидно слышать это, – возражаю я, – представьте себе, я являюсь в вашу Черногорию и начну вам доказывать, что надо бить черногорцев. У вас не заболит сердце, что гость вашей страны так возмутителен со своими хозяевами?
– Черногорец не доведет до этого, а русский доведет…
– Что ж, черногорец культурнее?
– Никакого сравнения!..
– Кулачная расправа тоже, в числе культурных приемов, заимствована вами?
– Когда иначе нельзя, то надо бить.
– Но я же никого не бью!
– А кто вас боится?
– Мне этого и не надо, – мне надо, чтобы вверенное мне дело шло успешно; дело и хозяин, а вы, я, все мы – нуль.
– Всё разговоры… ей-богу, вы умный человек, а такие вещи говорите…
Староста неохотно, боком протискался из толпы. Это был светлобородый, густобородый, лет пятидесяти крестьянин с холодными серыми глазами, смотревшими твердо, уверенно и без смущения.
– Ты староста?
– Мы.
– Какой здесь самый лучший дом?
Староста слегка прищурился, кашлянул в руку, переступил с ноги на ногу и, не торопясь, спросил:
– А вам на что?
Черногорец так и вскипел. Замахнувшись нагайкой, он бешеным шепотом прошипел:
– Да как вытяну я тебя, мерзавца, – научишься разговаривать, скотина!
Дикий вид черногорца, его черные глаза без зрачков и синие белки смутили невозмутимого старосту. Но я не мог больше оставаться равнодушным и сказал несколько французских фраз черногорцу, после которых он плюнул, отъехал и стал безнадежно смотреть на синюю полосу окружавших нас лесов. Я продолжал переговоры.
Лучший дом оказался принадлежащим старосте, и, после некоторого колебания и с восстановившимся достоинством, староста изъявил согласие взять нас, начальство, к себе.
Странный человек – черногорец: сам он, как и вся его нация полны чувства собственного достоинства. Вся кровь, веками проливаемая в войне с турками, сводилась к поддержанию, в сущности, только этого достоинства. А в других ничто его так не раздражает, как именно это достоинство. Я давно знаю своего черногорца. Когда он был помоложе и печень его была нормальна, он был и мягче и жизнерадостнее, был занимательным и изобретательным, каким может быть только молодой медвежонок: он играл на губах, пилил, подражая звуками пиле, острил, знал множество фокусов и хлопал пальцем изо рта, как самая настоящая пробка шампанского. Дамы ласкали его, мужья смотрели глазами своих жен, и дела черногорца шли, как по маслу. Он и теперь далеко не стар, но уж очень тяжел, болеет печенью и потому раздражителен, не нуждается больше в снисхождении, потому что знает свое ремесло, и ищет хороших заработков. В редкие мгновения он становится прежним веселым и беззаботным черногорцем, для которого море по колено, которого когда-то австрийское правительство приговорило к расстрелу за боснийское восстание, и он, – австрийский инженер, – с потерею всех прав, бежал в Россию, где пришлось начинать с самого начала, с самых первых ступеней.
Мы едем к дому старосты, и нас провожает вся толпа.
Толпа как толпа: есть богатые, есть и бедные, очень бедные… Лица простые, доверчивые и свободно-покорные судьбе. Даже у самых бедных это есть. Какая-то патриархальность, незлобие, покорность и ясность. Смотрят на нас, смотришь на них. Дети и мудрецы в одно и то же время: они слышат рост травы. Это, конечно, первые естествоведы своих лесов. Но женщины неказисты, малорослы и с глупым выражением кроткой овцы. Их сестры, наши культурные дамы, даже мещанки пригородных мест, выглядят лучше. В этих женщинах, в сущности, с моей испорченной точки зрения, ничего и женского нет: неуклюжие маленькие самки. Зато у мужчин бороды густые, каких у жидкого интеллигента не встретишь, и требовать к себе уважения за бороду имеет свой большой смысл.
Мы двигаемся по улице среди бедных и богатых изб, наваленного леса, – дров, всякого хлама. Солнце золотит деревню и лес; там и сям на горизонте, в неподвижном ароматном воздухе, как свечки, поднимаются к небу белые паровые столбы. То горят леса, и без ветра это – только свечка, а подымается ветер, и широкой волной разольется море огня, и побегут от него медведи, волки, рыси, барсуки и лисицы, и – народ их лесной – зайцы, слившись иногда все в одну дружную, сплоченную семью. Бывает, примыкает к ним и человек со своими отрядами: овечками, лошадками, коровками и свинками. Надо хорошо знать лес, и его знают его граждане, и знают, куда и как спасаться им от огня. Кончится пожар, и прекратится перемирие, и снова каждый станет на своем посту. Человек капканы будет расставлять, Мишка – мять овец, а все остальные звери будут рвать на части глупых зайцев. Зайцы будут кричать благим матом, будут жаловаться на судьбу, но с изумительной постепенностью будут все расти и расти в своем количестве. Но пройдут века, и не станет зайцев, а с ними и хищных зверей, живших за их счет. Зверей заменит человек, потерявший свои разительные свойства зверя…
А пока мы в новом деревянном двухэтажном с мезонином доме старосты. В нижнем этаже – лошади, скот, солома и сено. Сквозь щели пола их видно и слышно аромат навоза. В светелке наверху душно и тесно. В старой избе клопы, мухи, комары. С новых сосновых стен так и капает желтая смола. А какая высокая лестничка в светелку, и все это – и дом, и сарай, и светелка – под одной крышей, странно отделенной от стен, но соединенной плотно между собой. Все сбито и прочно, и зимой не попадает сюда ни одна снежинка, но зато упадет искра огня в щель из верхнего жилья в сарай, и всесокрушающий пожар неизбежен. Хорошо, если пожар летом, успеют отстроиться, а осенью, да дружный, и пропала деревня.
И вы иногда слышите:
– Здесь когда-то жилье было…
– Куда же оно делось?
– А господь это знает.
– Что ж жители – вымерли, сгорели, замерзли или так разбрелись по белу свету?
– Кто узнает? Кругом на сотни верст – лес и лес, – кого спросишь? Ушли и ушли.
И вы смотрите на старое пепелище:
Времен от вечной суеты,Быть может, нет и мне спасенья.В этих глухих местах Вологодской и Костромской губерний обитатели как-то меняют слова и говорят: пецка, вместо печка, хо́тите, вместо хоти́те и т. д. Что-то с непривычки странное, наивное и бесконечно простое и не спорное. Птица поет одну свою арию, и если человек начинает с пения свою речь, то нельзя и от него требовать на первых же шагах сложных речей. Поет и твердо знает одну, слышанную мною, излюбленную поговорку:
– Мужик да овца, и опять с конца.
II
Удивительный человек – этот черногорец. Не успел расположиться, а у него уже в комнате женщина, молодая и не в пример другим даже красивая: среднего роста, с худощавым румяным лицом, карими, как у молодой матки, смелыми глазами.
– Это кто? – спросил я у сидевшего, как молодой паша, черногорца.
Тот только фыркнул.
– Вам не надо знать… – и он указал на мое обручальное кольцо.
Матка уходила и возвращалась, а черногорец двигался все веселее. Моя комната рядом, перегородка не доходит до верху, и, лежа на кровати, я слышу разговор в комнате черногорца. Она говорит:
– Куры-то у нас нашлись… Теперь с этим рублем что ж делать?
Черногорец, понижая голос, с легким смущением, прикрытым, впрочем, пренебрежением, отвечает:
– Возьми себе.
Мой расчетливый черногорец!
– Ну, спасибо.
Какой-то странный звук вроде поцелуя. Черногорец, смущенный и довольный, руки в карманы, лениво входит ко мне.
– Странный обычай: дал ей рубль, целуется…
Сообразил, что я услышал, и идет навстречу моим предположениям!
– Обычай всеобщий.
– Это – честная женщина… Дочь хозяина, и муж у нее… Так, просто…
Черногорец дернул плечом.
– Охотно верю…
У черногорца свои правила относительно женщин. Он говорит:
– Честных женщин нельзя соблазнять, ухаживать за женами друзей нельзя!
Он растопырил свои толстые пальцы и убежденно возражает на свое положение:
– А нечестных и соблазнять нечего!
Он говорит своим твердым выговором и машет рукой и головой:
– А за кем же ухаживать, как не за женой друга? К врагу ведь не пойдешь же в гости?
Опять стучит своими каблуками молодая матка в комнате черногорца, и он озабоченно уходит.
Я беру шапку и спускаюсь вниз во двор.
На крыльце уже стоит толстый, пока еще холодный как лед самовар, уже налитый водой. Дым валит из трубы. По двору гуляет домашняя скотинка. Из-под сарая выглянула красавица пегая кобыла: высокая, широкая, на тонких твердых ногах, с широкой грудью, с большими широкими губами, которые держит так же пренебрежительно и спокойно, как и сам ее хоязин.
Я осматриваю пегашку и, чем больше смотрю, тем больше проникаюсь красотой этого животного.
– А что, хозяин, хороша лошадь?
Хозяин заложил руки за пояс рубахи, медленно подходит:
– Гляди!
Я смотрю и говорю:
– Хороша!
– Плоха ли лошадь?..
Хозяин потянул воздух, мотнул головой и смотрит на лошадь.
– Своя?
– Вот мать, вот отец, – указывал он рукою.
Мать такая же пегая, с отвислой губой, с толстым брюхом, с выгнутой спиной – урод перед дочкой. Отец – мухортый с толстыми ногами, густо обросшими шерстью, твердый, степенный, солидный жеребец. Он безостановочно машет головой вверх и вниз, вниз и вверх, и не обращает никакого внимания ни на нас, ни на кобыл.
– Так и ходит?
– А что не ходить?
– К кобылам не пристает?
– Их дело.
Я опять смотрю на пегашку. Мне нужна лошадь. Она смотрит на меня, сложила свои широкие губы, слегка оттопырила их – точно слушает пренебрежительно, о чем здесь толкует этот откуда-то из лесу выбежавший чужестранец.
– И в езде хороша?
Во дворе масса чужого народа; ребятишки, девочки, бедненький люд: с клюками, согбенные калеки и убогонькие. Старичок в рубашке, подпоясанной, как у мальчика. И все и старичок, прежде чем хозяин рот открыл, в ответ на мой вопрос кричат:
– Батюшка, да как же, в кого быть ей плохой в езде? Первая лошадь не то что в деревне: весь лес изойди, такой не сыщешь. Плоха ли лошадь?
– Молода?
– Молода, молода: три, четыре, пять лет.
– Сколько жеребят имела?
– Да что? Двоих.
– Троих, батюшка, всего и имела, – говорит вышедшая в это время во двор хозяйка.
– Тебя, дуру, кто звал? – осаживает ее светлобородый супруг.
Хозяйка виновато смотрит в глаза повелителя.
– Бабы и бабы… только и всего: ступай!
Баба смущенно уходит и ворчит:
– Вишь, натискался полный двор, только сбивают в речах!..
– Правда, матушка, правда твоя, – говорит старичок.
Старики и старухи соболезненно качают головами: дескать, и вправду набились, только сбиваем хозяев.
– Ты, батюшка, не сумлевайся, – шамкает мне старик, – клад, а не лошадь…
– А цена какая?
– Цена?
И хозяин пускает столько воздуху из своей груди, сколько и редкий мех выпустит. Думает, думает и говорит:
– Непривычное дело… говори сам цену!
Оригинально!
– Неужто, Парфений Егорыч, и вправду решился смотать? – спрашивает из толпы один. – Племя-то, племя какое…
Хозяин, Парфений Егорыч, молча чешет затылок. Затем энергично машет рукой и говорит:
– Нет, не продам!
Наступает молчание. У меня сразу до температуры кипения усиливается желание приобрести лошадь. В толпе тихо. Убедительно запевает один:
– А пошто и не продать? были бы деньги – какую захочешь, такую и купишь.
Другой, третий, четвертый говорят, указывают на то, что почему-де барину и не уважить?
Хозяин слушает, твердо уставившись в землю. Начинаю и я убеждать хозяина. Он слушает и меня и молчит. Опять выходит хозяйка.
– Слышь, женское, продавать, что ли? – бросает ей хозяин.
«Женское» прирастает к месту, делает большие комичные глаза, замирает, качает головой и, наконец, отвечает:
– А твое дело… Ты – большой!
– А, знаю, – равнодушно пускает сквозь зубы хозяин.
– Гляди… – отвечает ему хозяйка.
– То-то гляди, – презрительно сплевывает хозяин, – только мешать бы вам…
Хозяйка, испуганная, быстро скрывается.
– Ну что ж? Не хочешь, так не хочешь.
Я тоже собираюсь уходить в комнату. Подходит наш мажордом – Кузьма.
Он разводит руками и тихо, доверчиво говорит:
– Просто приступу ни к чему нет. Яиц десяток двадцать копеек, курица – пятьдесят… Московские, прямо московские цены…
Кузьма помолчал и говорит:
– Надо у этих порасспросить.
– Спроси, – говорю я.
– Эй, вы, старички, нет ли у вас продажных яичек, кур?..
Толпа внимательно слушает, смотрит со страхом на хозяина и молчит. Вызывается старичок.
– Курочка, батюшка, у меня есть.
– А цена?
– А что дадите.
– А ты свою говори.
Старик думает, чешет голову и, наконец, нерешительно со страхом говорит:
– Двадцать копеек дашь, что ли?
– Пятнадцать.
Какой-то белокурый парнишка подвернулся под ноги хозяину и полетел, получив от него здоровенную затрещину.
– Шляются под ногами! Чего не видели? Весь двор запрудили. Вон!
И старые и малые посыпали со двора, а с ними и старик, продававший курицу. Тот самый, который отозвался на мой вопрос, примут ли нас в гости, – тот самый, который уговаривал хозяина продать нам лошадь.
Все-таки Кузьма разыскал его и курицу за пятнадцать копеек купил.
– Ну, – сообщает Кузьма подробности продажи. – «Теперь, – говорит старик, – пропала моя головушка… Парфений Егорыч до смерти не простит мне, что перебил дорогу его курам». Я ему говорю: «А тебе что такое – Парфений Егорыч?» – «Как что, батюшка? Парфений Егорыч у нас всему делу голова. Хочет – и жив человек, не хочет – стаял, как снег в печи…»
Кузьма вздыхает, думает и прибавляет:
– Известно, денежный человек, сильный!.. В одном лесу какие поставки держит… Голодный год пришел… Куда?.. Только он и есть!.. Взял теперь зятя себе, так, бедненький вовсе, – охота, чтобы из воли его, значит, не выходил… А детей все-таки не дает бог дочке: третий год уж живут, а внуков нет. И, слышь, гневается на зятя; в черном теле его, так, работником содержит, а к делу не допускает вовсе, все сам, сам…
Все это мой Кузьма уже разузнал, выспросил.
– Вы насчет пегашки оставьте, – он теперь сам пусть начинает…
Действительно, когда вторично я вышел во двор, хозяин, смягчив свое суровое и презрительное выражение, обратился ко мне:
– Капитал-то в избу, али ладно здесь?
– Какой капитал?
– Да вот струмент, вешки.
– Разве тронет кто?
– Да ведь как говорится: замок для добрых людей.
– А то и стащат?
– Обнаковенно… иной и глуп для этого, пожалуй, подкладывай ему.
– А если бы я деньги положил на улице?
Хозяин с презрением покосился на меня и едва удостоил сквозь зубы:
– Пожалуй, попробуй!
– Это в городе порченый народ, а здесь у вас – простота.
– Это… – ответил хозяин и усиленно замигал глазами.
Кузьма, слушавший на крыльце, усмехнулся и проговорил:
– Как говорите: простота? Хуже воровства живет!
Хозяин опустил глаза в землю, молчал, слушал и о чем-то думал. Лицо его опять смягчилось, и он вдруг добродушно и доверчиво обратился ко мне:
– Ну, так думаю, что ль, лошадку-то вам купить у нас?
– Что ж, пожалуй, а цена какая?
– Уж и не знаю… Две катеньки не обидно?
– Что ты, что ты! – закричал на него Кузьма, – язык-то как поворачивается?
Хозяин опять насупился, покраснел и ответил:
– Так говорится, за спрос денег не берут… Вашу цену скажите.
– Да ты в Петербург привези ее, и то больше сотенной не возьмешь, – ответил ему Кузьма.
– Нет, за сотенную и толковать не о чем, – махнул рукой хозяин.
– Да мы тебе сотенной и не даем! – ответил насмешливо Кузьма.
– Да ты что? – окрысился хозяин на Кузьму, – суешься тут!.. Постарше, чать, тебя есть!
Кузьма замолчал. Очередь говорить была за мной…
– Я дал бы, – нехотя начал я и запнулся, – ну… сто двадцать рублей.
– Вот чего, барин… Сто пятьдесят и бери, покамест не раздумал…
– Нет.
– Сто сорок!
– Сто тридцать!
– Нет!
Уперся хозяин, уперся и я. Опять на дворе собрался народ.
– Хороша лошадь… Племя какое… От нее же вот купец купил в городу, и то первая лошадь…
– Давно купил? – спросил я.
– Да что ты путаешь, – крикнул в сердцах хозяин, – от старой купил. И кой ляд тут вас носит?
– Знамо, от старой, – подхватили дружно в толпе, – что говорить, когда не знаешь?
– Али от старой? – с веселой и глуповатой физиономией посмотрел на всех провинившийся.
Давешний старик, продавший курицу, не смеет уже входить во двор и стоит на улице у ворот.
– Кузьма, посмотри лошади в зубы, – говорю я.
Кузьма смотрит, выворачивает ей губы, заглядывает на верхнюю челюсть, пока пегашке не надоедает все это и она так вздергивает головой, что сразу высвобождает свою морду из рук Кузьмы. Кузьма молча вытирает о полы руку. Пегашка опять вытянула свои широкие губы и смотрит равнодушно и сонно, точно и не с ней все это было.
– Сколько ж лет?
Кузьма еще думает и нерешительно отвечает:
– Лет восьми будет.
Поднимается страшный вопль.
– Трех, четырех, пяти! Своя прирожденная, на глазах выросла, племя какое, сейчас и то берёжая!
– Да мне это все равно, – говорю я, – мне тащила бы воз, и конец.
– Ну, лучше этой лошади и нет, хоть весь свет обойти! – кричит кто-то из толпы.
– Хороша-то хороша, – говорит Кузьма, – ну и цена!..
– А ты не об цене думай, а какую лошадь берешь! – учит его голос из толпы.
Старик у ворот качает головой и со скучным убитым лицом уходит прочь. В толпе смеются, перебрасываются тихо словами и забыли уже о том, что я торгую лошадь. Хозяин тоже с равнодушным лицом уходит в избу.
– Ну, бог с тобой, – говорю я, – бери сто сорок рублей.
В толпе наступает мгновенная мертвая тишина. Смотрят, раскрыв рты, на меня, на хозяина, лениво возвращающегося назад. Я вынимаю деньги и отдаю. У некоторых в толпе выражение такое, как если бы где-нибудь в Сахаре с мучительной жаждой они смотрели на счастливца, урвавшего глоток воды.
Вышел и черногорец, засунув руки в карманы и выворачивая большими ногами.
Он был в духе, подошел к пегашке, заглянул ей под ноги, толкнул в живот и пренебрежительно отошел.
– Рублей шестьдесят стоит, – бросил он снисходительно.
– Денег-то, денег куча, ах ты, господи!.. – качали головами в толпе.
Даже хозяин, и тот покраснел от напряжения и от удовольствия, как ни старался сохранить спокойствие.
– Ты, барин, на деньги не гляди, а на кобылу, – ответил он черногорцу, – племя!
– Племя? – переспросил черногорец и пригнулся с своей обычной манерой, делаясь похожим на быка, когда он собирается подбросить рогами.
– Племя первое дело, – вздохнул какой-то мужик из толпы.
Черногорец опустил голову, задумался.
– А вот у дочки твоей и нет племя, – проговорил он на прощанье, обращаясь к хозяину, и ласково рассмеялся.
Хозяин, как человек, которому попали в самое больное место, безнадежно, покорно, грустно ответил:
– Наказал господь… Одна распроединственная и то нет.
– То-то, нет… А вот дождался бы нас, не выдавал дочку, я бы и взял ее за себя!.. А у меня, брат, столько племя, сколько волос у тебя на голове.





