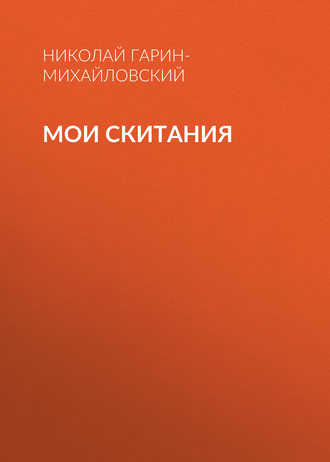
Николай Гарин-Михайловский
Мои скитания
– Мужик да овца, и опять с конца.
II
Удивительный человек – этот черногорец. Не успел расположиться, а у него уже в комнате женщина, молодая и не в пример другим даже красивая: среднего роста, с худощавым румяным лицом, карими, как у молодой матки, смелыми глазами.
– Это кто? – спросил я у сидевшего, как молодой паша, черногорца.
Тот только фыркнул.
– Вам не надо знать… – и он указал на мое обручальное кольцо.
Матка уходила и возвращалась, а черногорец двигался все веселее. Моя комната рядом, перегородка не доходит до верху, и, лежа на кровати, я слышу разговор в комнате черногорца. Она говорит:
– Куры-то у нас нашлись… Теперь с этим рублем что ж делать?
Черногорец, понижая голос, с легким смущением, прикрытым, впрочем, пренебрежением, отвечает:
– Возьми себе.
Мой расчетливый черногорец!
– Ну, спасибо.
Какой-то странный звук вроде поцелуя. Черногорец, смущенный и довольный, руки в карманы, лениво входит ко мне.
– Странный обычай: дал ей рубль, целуется…
Сообразил, что я услышал, и идет навстречу моим предположениям!
– Обычай всеобщий.
– Это – честная женщина… Дочь хозяина, и муж у нее… Так, просто…
Черногорец дернул плечом.
– Охотно верю…
У черногорца свои правила относительно женщин. Он говорит:
– Честных женщин нельзя соблазнять, ухаживать за женами друзей нельзя!
Он растопырил свои толстые пальцы и убежденно возражает на свое положение:
– А нечестных и соблазнять нечего!
Он говорит своим твердым выговором и машет рукой и головой:
– А за кем же ухаживать, как не за женой друга? К врагу ведь не пойдешь же в гости?
Опять стучит своими каблуками молодая матка в комнате черногорца, и он озабоченно уходит.
Я беру шапку и спускаюсь вниз во двор.
На крыльце уже стоит толстый, пока еще холодный как лед самовар, уже налитый водой. Дым валит из трубы. По двору гуляет домашняя скотинка. Из-под сарая выглянула красавица пегая кобыла: высокая, широкая, на тонких твердых ногах, с широкой грудью, с большими широкими губами, которые держит так же пренебрежительно и спокойно, как и сам ее хоязин.
Я осматриваю пегашку и, чем больше смотрю, тем больше проникаюсь красотой этого животного.
– А что, хозяин, хороша лошадь?
Хозяин заложил руки за пояс рубахи, медленно подходит:
– Гляди!
Я смотрю и говорю:
– Хороша!
– Плоха ли лошадь?..
Хозяин потянул воздух, мотнул головой и смотрит на лошадь.
– Своя?
– Вот мать, вот отец, – указывал он рукою.
Мать такая же пегая, с отвислой губой, с толстым брюхом, с выгнутой спиной – урод перед дочкой. Отец – мухортый с толстыми ногами, густо обросшими шерстью, твердый, степенный, солидный жеребец. Он безостановочно машет головой вверх и вниз, вниз и вверх, и не обращает никакого внимания ни на нас, ни на кобыл.
– Так и ходит?
– А что не ходить?
– К кобылам не пристает?
– Их дело.
Я опять смотрю на пегашку. Мне нужна лошадь. Она смотрит на меня, сложила свои широкие губы, слегка оттопырила их – точно слушает пренебрежительно, о чем здесь толкует этот откуда-то из лесу выбежавший чужестранец.
– И в езде хороша?
Во дворе масса чужого народа; ребятишки, девочки, бедненький люд: с клюками, согбенные калеки и убогонькие. Старичок в рубашке, подпоясанной, как у мальчика. И все и старичок, прежде чем хозяин рот открыл, в ответ на мой вопрос кричат:
– Батюшка, да как же, в кого быть ей плохой в езде? Первая лошадь не то что в деревне: весь лес изойди, такой не сыщешь. Плоха ли лошадь?
– Молода?
– Молода, молода: три, четыре, пять лет.
– Сколько жеребят имела?
– Да что? Двоих.
– Троих, батюшка, всего и имела, – говорит вышедшая в это время во двор хозяйка.
– Тебя, дуру, кто звал? – осаживает ее светлобородый супруг.
Хозяйка виновато смотрит в глаза повелителя.
– Бабы и бабы… только и всего: ступай!
Баба смущенно уходит и ворчит:
– Вишь, натискался полный двор, только сбивают в речах!..
– Правда, матушка, правда твоя, – говорит старичок.
Старики и старухи соболезненно качают головами: дескать, и вправду набились, только сбиваем хозяев.
– Ты, батюшка, не сумлевайся, – шамкает мне старик, – клад, а не лошадь…
– А цена какая?
– Цена?
И хозяин пускает столько воздуху из своей груди, сколько и редкий мех выпустит. Думает, думает и говорит:
– Непривычное дело… говори сам цену!
Оригинально!
– Неужто, Парфений Егорыч, и вправду решился смотать? – спрашивает из толпы один. – Племя-то, племя какое…
Хозяин, Парфений Егорыч, молча чешет затылок. Затем энергично машет рукой и говорит:
– Нет, не продам!
Наступает молчание. У меня сразу до температуры кипения усиливается желание приобрести лошадь. В толпе тихо. Убедительно запевает один:
– А пошто и не продать? были бы деньги – какую захочешь, такую и купишь.
Другой, третий, четвертый говорят, указывают на то, что почему-де барину и не уважить?
Хозяин слушает, твердо уставившись в землю. Начинаю и я убеждать хозяина. Он слушает и меня и молчит. Опять выходит хозяйка.
– Слышь, женское, продавать, что ли? – бросает ей хозяин.
«Женское» прирастает к месту, делает большие комичные глаза, замирает, качает головой и, наконец, отвечает:
– А твое дело… Ты – большой!
– А, знаю, – равнодушно пускает сквозь зубы хозяин.
– Гляди… – отвечает ему хозяйка.
– То-то гляди, – презрительно сплевывает хозяин, – только мешать бы вам…
Хозяйка, испуганная, быстро скрывается.
– Ну что ж? Не хочешь, так не хочешь.
Я тоже собираюсь уходить в комнату. Подходит наш мажордом – Кузьма.
Он разводит руками и тихо, доверчиво говорит:
– Просто приступу ни к чему нет. Яиц десяток двадцать копеек, курица – пятьдесят… Московские, прямо московские цены…
Кузьма помолчал и говорит:
– Надо у этих порасспросить.
– Спроси, – говорю я.
– Эй, вы, старички, нет ли у вас продажных яичек, кур?..







