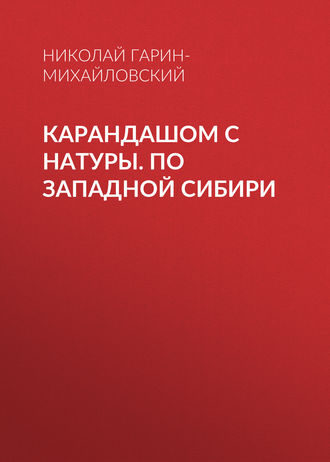
Николай Гарин-Михайловский
Карандашом с натуры. По Западной Сибири
Глава II
Уголок Сибири между Обью и Томью. – Из Томска в Талы. – Ямщик Иван.
Я не хочу ничего дурного сказать про русского крестьянина; но пальму первенства по развитию, незабитости, большей интеллигентности, открытости и доверию, по чистой совести, должен отдать сибиряку. В одном они схожи: у обоих никаких потребностей: сыт – и ладно. Заботливости об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы – никакой. Что она сама, так сказать, добровольно дает – то и ладно. К тому и приспосабливаются, так и складывают свою жизнь. Между Обью и Томью[2] крестьяне живут земледелием. Земля родит хорошо, ее вдоволь, и кто сколько хочет, тот столько и сеет. Система посевов залежная: три, четыре, пять хлебов, – и земля бросается на пять-шесть лет, пока кто-нибудь не подымет ее снова, найдя, что она вылежалась и уросла. Постоянного посева на одной и той же земле нет, четвертый и пятый хлеб уже давит такая трава, о какой в России и понятия не имеют. Страшные здесь травы: чуть немного потное место – почти закрывают они человека. Спасение от них: выжигать их весной, «палы пускать». Это же спасает землю и от прорастания лесом. Крестьяне говорят, что если не пускать по пашне палов, то первую же весну березняк всходит, как сеянный. Такой же факт я наблюдал в Самарской губернии: там я бросил поле – пошел березняк, и теперь это прекрасная, как будто насаженная роща.
Но понятно, как палы губят лес. Нет никакого сомнения, что здесь, в местах, доступных хлебопашеству, весь лес обречен на гибель. Массу пахотей теперешних занимала прежде сплошная тайга. Остатки ее, переход от тайги к пашне, составляет колодник, – это поле, сплошь усеянное громадными, полусгнившими, лежащими на земле гигантами (сосна, кедр, ель).
Земля родит отлично в полосе между Обью и Томью, но хлеб больше соломистый, и надо обязательно парить и под яр и под озимь, иначе хлеб не выспевает. Все-таки с хозяйственной десятины (две тысячи пятьсот квадратных сажен) средний урожай сто пудов, а в Самарской губернии с десятины в четыре тысячи квадратных сажен средний – семьдесят пудов. Сеют понемногу, каждый обрабатывает, что ему под силу, наемного труда почти нет; этим и урожайностью и обусловливаются малые посевы. С землей обращаются небрежно: сплошь и рядом вспашет, а потом раздумает сеять, – так она и пойдет небороненная под сенокос. А такое поле, представляя из себя застой для воды, при сырых здешних местах легко превращается в болотистое место.
Своеобразная особенность местности между Обью и Томью: вся она изрыта громадными глубокими оврагами, которые называются здесь логами (падями); пространства между этими логами, возвышенные, удобные для пашни места, называются гривами. В логах лес растет; на гривах (каждая представляет из себя довольно ограниченное пространство в пять-шесть десятин) ведется хозяйство (грива Власьевых, Елисеевых и проч.). Крестьяне здесь живут неказисто, но и не нуждаются: пьют кирпичный чай, масло, яйца, молоко в каждодневном употреблении. Во всякой избе вам сварят хорошие щи, хороший суп, сжарят хорошо жаркое, – все это с уменьем и с привычкой обращаться с провизией. Попробуйте в России заказать в избе обед – наварят такого, что в рот не возьмешь.
Сейчас же за Томью, вне описываемого треугольника, далее на восток, характер местности и населения совершенно уже другой. Здесь уже лес, и главный доход населения – лес, извоз и охотничий промысел. Лес возят в город в виде, главным образом, дров на плотах по Томи. На этих плотах и хлеб идет. Извоз в Иркутск; редкий крестьянин не побывает там.
– Извозное дело – затяжное, как хозяйство: завел тройку – думаешь, о пяти, пять завел – десятку норовишь; с десятки на тридцать кучишься; добился тридцати – нет ничего, все разошлось, опять начинай сначала.
– Отчего же?
– Так… подобьется извоз, корм вздорожает, туда-сюда, и не видал, как в такие долги влезешь, что и не развяжешься.
Еще дальше на восток (верст тридцать от Томи) – уже сплошная тайга верст на сто, и исключительный промысел – зверной: медведь, колонок, лисица, волк.
Ближе к городу Томску население живет исключительно городом: огород, масло, мясо, яйца, дрова, но живут неважно.
– Деньги не держится, водку любят, на город надеются…
Около самого Томска масса деревушек: десять – пятнадцать изб. Нужда, бедность поразительная: лачуги без крыш, одним словом, – самый нищенский вид.
– Так изо дня в день живут, только и знают, что в город всё волочат, что попадет.
Мужичонка зануженный, с жадными ищущими главами, усердно косит кослую болотную траву.
– На что она ему? Ее ведь лошади не едят.
– В город. В городе все съедят.
Как и везде, более зажиточные те, которые умеют высасывать сок, то есть кулаки.
В хлебородной полосе они занимаются скупкой хлеба, а ближе к городу они являются крупными поставщиками дров; они посредники между населением и городом – раздают деньги в зимнее время под работу: сам за дрова в городе берет 2 рубля 50 копеек, а сдает по 1 рублю 80 копеек. Торгуют скотиной.
За выпас 1000 голов, после снятия хлеба, с тем, чтобы скотина ходила везде, общество берет с них 30 рублей. Так быстро богатеют, и они, эти прасолы, всегда больше из российских.
– По этой части они умно живут и во всем толк понимают.
Я уже месяц верчусь по всевозможным направлениям этого треугольника между Обью и Томью, разыскивая и намечая будущую железнодорожную линию Сибирской дороги.
Магистраль назначил; очередь за варьянтами, то есть частичными изменениями.
Еду сегодня для такого варьянта из Томска в село Талы (на Томи, в девяноста верстах от города). Из Башурина[3] повез меня мой старый знакомый Иван.
И он и я рады тому, что опять свиделись. На дворе начало июля.
– Вот и еще раз господь привел свидеться, – говорит Иван, выезжая со двора и приветливо оборачиваясь ко мне.
– Ну что у вас все благополучно?
– Все, слава богу.
Едем по берегу Томи. Татарская деревушка раскинулась на самом берегу. Гуси, скотина гуляют по зеленой лужайке. Обитатели всё бритые татары; сегодня у них праздник какой-то, и они праздничной кучей сидят на берегу, сонно смотрят на нас в своих бархатных тюбетейках.
– Чем занимаются?
– Извозом.
– Хорошо живут?
– Мало же… Больше в нужде.
– Рыболовством занимаются?
– Нет, по Томи мало рыбы. Прежде, говорят, было… воды большие пошли, доставать неудобно стало.
Навстречу едет, в широкой шляпе, широкоплечий, притиснутый мещанин в франтоватой притиснутой тележке. Рядом толстая, как бочка, нарядная баба. Мещанин степенно снял шляпу, я тоже.
– Это кто?
– А вот мельницу видел? Пять домиков? Это старший брат. Те, про коих сказывают, что от фальшивых денег жить пошли.
Я вспомнил о фальшивых деньгах, убийствах, о всех слухах, связанных с пятью домиками, и с любопытством оглянулся.
Я увидел только широкую спину старшего брата и курчавые русые волосы.
– Отличный мужик, дай бог ему здоровья, – все спасибо говорят. Если бы не он, наша бы деревня совсем пропала в эти два года; хлеб дорогой, весной где деньгу зашибать? а он, спасибо ему, хлебом всю деревню кормил.
– Даром?
– Где даром?.. Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может, две-три гривны и дороже возьмет, да ведь даст народу помощь.
Иван сидит вполоборота, и, видимо, ему хочется продолжать разговор со мной…
– Это чья земля? – спрашиваю я.
– Отсюда к Томску пошла губернская, а к Кузнецку – кабинетская.
– Это что за губернская? казенная?
– Казенная, мы государственные крестьяне.
– И у вас, как у кабинетских, земля неделеная?
– То же самое. Кто где знает, там пашет и косит.
– А если одно и то же место двое захотят в одно время?
– Этого не бывает. Кто-нибудь да упредит.
– И ничего вы за это не платите?
– Ничего. Подать только, конечно. На кабинет платят дань по шести рублей с души, а у нас нет.
– А если с другого общества соберутся к вам косить?
– Этого нельзя. Вся земля поделена между обществами.
– Ну, а есть такие, которые из года в год сидят на тех же землях?
– А как же? Кого сила берет да земля удобная, от отца к сыну идет, а ослабели – другой примет за себя.
– А лес?
– Лес весь казенный, а если кто облюбует рощу, к примеру, для пасеки, станет беречь ее от палов, чистить, ну, того и роща считается.
– И рубить ее можно?
– Для домашней потребности сколько хочешь руби. На кабинетской, там на душу положение, а у нас сколько хочешь, только в город не вези на продажу; у нас, впрочем, слабо насчет этого. Так, для примеру, возьмешь билет на сажень кубическую, рубль шестьдесят копеек отдашь и вози по нем целый год. А на кабинетской строго, там уж на лошадях не увезешь – поймают; надо билет брать, а брать билет, так уж расчету больше на плотах возить, так и возят. Кабинетские на плотах, а мы на лошадях, потому что нам вольготно.
– А совсем не брать билета можно?
– Если поодиночке али семейно – можно: дашь полесовому тридцать или сорок копеек, а артелью не пропустит и денег не возьмет, – свидетелей, значит, опасается.
Разговор оборвался. Мы едем по лугам, заливаемым Томью; мелкий березняк, тальник по бокам; Томь то здесь, то там сверкает.
Хотя июль, но холодно, как осенью. Солнце то выглянет, то прячется за тучи. Кругом яркая зелень. Летают чайки, мартышки.
В Яру перевоз через Томь. Паром на той стороне. Звали, звали, стрелял я два раза, – наконец, услышали, зашевелились, стали запрягать лошадей, и скоро воздух огласился шумом лопастей о воду. Здесь паромы приводят в движение помощью лошадей. Лошади вертятся в кругу, устроенном в конце парома; колеса приходят в движение, и паром едет. На Томи две лошади, на Оби три.
В ожидании я хожу по живописному берегу Томи и ищу интересных камешков. Я хожу в сущности по золоту. В Сибири нет реки, где в песке не было бы золота; вопрос в его количестве, а следовательно в выгодности его добычи. Я нашел кусок кварца с блестящей золотой точкой. Неужели действительно золото? Я оглянулся к Ивану, но он куда-то ушел. Сидел только мой спутник, Михаил Осипович.
– Золото, – показал я ему.
Михаил Осипович посмотрел, отодвинул от глаз подальше и авторитетно проговорил:
– Нет.
Я не стал спорить, потому что знаю, что Михаил Осипович никакого представления о добыче золота не имеет.
Пришел Иван.
– Золото добывал? – спрашиваю.
– Бог миловал от греха. А вот какое золото добывал.
Иван вынул из пазухи кучу кедровых шишек.






