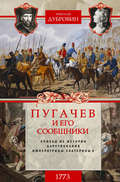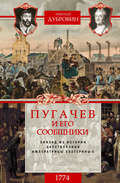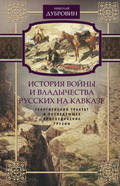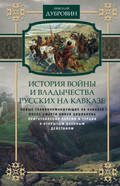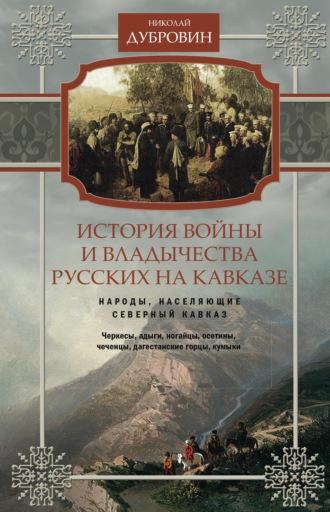
Николай Федорович Дубровин
История войны и владычества русских на Кавказе. Народы, населяющие Кавказ. Том 1
Под названием Татар-Туп (в переводе: татарское место) в прежнее время известны были у кабардинцев башни, или жулаты, превращенные татарами в минареты. «Жулат» значит часовня для добровольных дарителей, и в старину их было много по берегам Терека, выше его слияния с Малкой. Туда издревле ходили черкесы на поклонение, и там приносили жертвы, там кончались все ссоры и произносились клятвы. Нередко и теперь черкесы во время клятвы произносят: «Татар-Туп, пенже сан», то есть «да буду под Татар-Тупом хоть миллион раз».
Кабардинцы до сих пор питают глубокое уважение к курганам и древним развалинам, в особенности к урочищу Татар-Туп, лежащему на западном берегу Терека на семь верст ниже реки Комбулея. Кабардинцы сохраняют предание о существовании близ него какого-то большого города. Урочище и сами развалины считаются убежищем для убийц от преследования мстителей, здесь же раньше заключались все договоры и приносились те клятвы, в точном исполнении которых обе стороны хотели быть уверенными.
При поклонении джин-падишаху горцы произносят какие-то таинственные слова, в знак своего посещения они оставляют в ущелье несколько пуль, нож или какую-нибудь вещь. То же самое происходило и в верховьях Большого Зеленчука. В обоих ущельях можно обнаружить множество пуль, стрел, ножей, шашечных клинков и разнообразных мечей, ржавеющих там с незапамятных времен. Никто из местных жителей не решался их тронуть из боязни прогневить духа гор[65].
На той же горе Эльбрус, по сказанию черкесов, за какие-то грехи прикован великан. «На высокой снеговой горе, на самой вершине ее, есть громадный шарообразный камень, на котором сидит старик с длинною, до ног бородой; все тело его обросло седыми волосами, ногти на ногах и руках очень длинны и похожи на орлиные когти; красные глаза его горят, как расчаленные угли. На шее, посредине тела, на руках и ногах тяжелая цепь, которою прикован он с незапамятных времен. Он прежде был близок к великому Тиа (Богу) за свое благочестие; но когда вздумал свергнуть его и стать выше, то погиб в борьбе и прикован к скале на вечные времена. Немногие его видели, потому что доступ к нему сопряжен с большими опасностями; никто не мог видеть его два раза: кто пытался этого достигнуть – погибал».
Давно, очень давно томится старик и находится по большей части в оцепенении, но когда пробуждается, то первым делом обращается к сторожам.
– Растет ли на земле камыш и родятся ли ягнята? – спрашивает он.
– Камыш растет, и ягнята родятся, – отвечают безжалостные стражи.
Великан приходит в бешенство, зная, что будет томиться до тех пор, пока земля не перестанет производить камыш и ягнят. С отчаяния он рвет на себе оковы, и тогда земля дрожит от его движений, цепи его производят гром и молнию, тяжелое дыхание – порывы урагана, стоны – подземный гул, а слезы его – та бурная река, которая с неистовством вырывается из подножия снежного Эльбруса[66].
Искренняя вера в существование духов привела к тому, что некоторые кланы суеверного черкесского народа имели своих гениев-покровителей. Натухажцы избрали своим покровителем Хакуапаша, считая его в то же время покровителем и пахотных волов. Зажиточные семейства до сих пор посвящают одного из своих волов Хакусташу. Вола не употребляют ни в какую работу и называют «вол Хакусташа». В таком же почете находился Тугуплоху у клана надхо и Тугузитха у клана нетахо, входящих в племя натухажцев.
Среди суеверий черкесского народа особенно важную роль играли гадальщицы и колдуньи, или ведьмы.
Гаданием обычно занимались старухи, к чьей помощи чаще всего прибегали несчастные влюбленные. В таких случаях гадание производилось на нескольких зернах фасоли с одним камешком. К чести гадальщиц надо признать, что из своих знаний они не делали ремесла, а гадали только из одного желания услужить тем, кто приходил к ним за утешением. Самое же частое гадание у черкесов было по лопатке убитого домашнего животного. Разглядывая на свет эту кость, по заметным на ней жилкам и линиям предсказывали: будет ли хороший или дурной урожай, будут ли дождь, засуха, голод, холодная зима или война, словом, опытный гадальщик или гадальщица могли предсказать всевозможные бедствия или, напротив, благополучие. К гаданию прибегали и собираясь в набег на русские территории. После роскошного угощения предводитель партии брал косточку чен — бараний альчик – и бросал ее на пол у очага. Если косточка падала гладкой поверхностью вверх, это предвещало неблагоприятный исход, и наоборот. В первом случае набег откладывался, а во втором тотчас же осуществлялся. О провидческих способностях своих гадальщиков черкесы рассказывают чудеса, будто бы оправдывавшиеся на самом деле. Так, по их словам, один из князей предсказал, что в следующую ночь необходимо быть готовым к тревоге – и действительно, аул в ту же ночь был атакован неприятелем; другой был в гостях и, посмотрев на лопатку, увидел, что его жена, пользуясь отсутствием мужа, сидит с посторонним мужчиной. Поспешно оседлав коня, он поскакал домой, но, когда сообщили об этом его родному брату, бывшему среди гостей, тот потребовал ту же самую лопатку.
– Брат мой увидел, – сказал он, посмотрев на лопатку и улыбаясь, – что с женой его сидит наедине мужчина, но не рассмотрел, что этот мужчина ее младший брат.
Спешно посланные в дом князя, возвратившись, подтвердили справедливость его слов.
Если, с одной стороны, подобные гадальщики возбуждали уважение к себе у суеверного народа, с другой стороны, черкесы жестоко преследовали колдунов и ведьм. Таких людей они называли удде, считали их злыми и истребляющими собственных детей. Удде может быть и мужчина, и женщина, последние бывают чаще. Они находятся в контакте с нечистым и могут наслать на человека любую невзгоду. Изнурительные детские болезни, зараза, падеж скота и прочие несчастья приписывались действию их дурного глаза. Поймать колдуна или колдунью на месте преступления не было возможности, потому что, по понятиям черкеса, они при помощи нечистого духа могут превращаться в собак, кошек, волков и даже делаться невидимками.
У черкесов, в особенности у шапсугов, существовало поверье, что раз в год, весной, в определенную ночь, удде собираются на вершине высокой горы Себеркуасха в верховьях речки Убин и приезжают туда верхом на разных животных, как домашних, так и диких. Шапсуги уверяли, что сбор ведьм и чертей на этой горе бывал каждую пятницу в двенадцать часов ночи. Отдав нечистому отчет в своих поступках, они проводили ночь в пиршествах, пении, пляске, а с рассветом, схватив мешки – в одних заключались все земные блага, а в других все вредное для человечества, – разлетались по домам. Таким образом, все болезни, которыми люди страдают весной, приписывались удде. Не будь на свете цысюе (знахарь), черкесы не знали бы, как отделаться от ведьм и колдунов. Цысюе имел способность узнавать чародеев.
Чтобы снять болезнь, посланную ведьмой, призывали знахаря, который объявлял, что может вылечить больного и снять с него наговор не прежде, чем отыщет саму ведьму и очищением снимет с нее способность быть ведьмой и вредить людям. Ему представляли тотчас же всех, кого подозревали в чародействе. После тщательного осмотра обвиняемых знахарь указывал на виновных и отпускал признанных невинными. Обвиняемых в чародействе, если они не признавались в грехе, подвергали пытке: зажигали на близком расстоянии друг от друга два, а иногда и три костра. Жертву раздевали донага, связывали и сажали между костров. Знахарь, а иногда вместо него и мулла, при стечении народа, выспрашивал у обвиняемого в чародействе имена сорока чертей, с которыми он должен был быть в сношении и союзе. Бедная жертва, терзаемая мучениями, сознавалась в преступлении, и тогда приступали к ее очищению. Убивали совершенно черную, без всяких пятен и отметок, собаку, вынимали печень и, надев зажаренный кусок на ветку терновника, совали его в рот мнимому чародею. Несмотря на крик жертвы и боль, причиняемую терновником, ее заставляли съесть это нелакомое блюдо и тем же терновником прочищали горло. Между тем жареная печенка вызывала тошноту и рвоту, а народ уверял, что чародей изрыгает из своих внутренностей все зло, которое там скрывалось. Уничтожив таким способом у виновного всякую способность к чарам и взяв с него клятву навсегда прекратить сношения с нечистым духом, его освобождали. Впрочем, чародейная сила могла опять проявиться у такого человека, если он в течение тридцати дней после очищения украдкой съедал куриное яйцо или куриное мясо, а потому народ строго следил за этим тридцатидневным карантином[67].
Точно так же поступали черкесы и тогда, когда полагали, что свирепствующая повальная болезнь в околотке вызвана колдунами или ведьмами. Составлялась инквизиционная комиссия, которая переходила из аула в аул, отыскивая ведьм и колдунов – виновников болезни. Предводителем такой комиссии был цысюе или какая-нибудь старуха, которая сама побывала в подобной переделке и некогда обвинялась в чародействе. Поводив толпу из одного аула в другой, предводитель или предводительница указывали по большей части на какое-нибудь уединенное место, где, по их мнению, были спрятаны чарующие предметы, которые служили причиной несчастий и болезни. Такой предмет отыскивали: он состоял преимущественно из разноцветных ниток, связанных в узелки, и тогда советовали предостерегаться от них. Народ успокаивался.
Одним из самых слабых проявлений колдовства черкесы признавали порчу от дурного глаза. Народ утверждал, что есть целые семейства, у которых дурной глаз передается по наследству, из поколения в поколение. Для предохранения от столь вредного действия они носили на себе, надевали на детей и привязывали к уздам любимых лошадей стихи из Корана или завернутый в тряпочку кусок дерева, в которое ударила молния.
В заключение нельзя не упомянуть о страхе, который сумели внушить народу муллы относительно картин, в особенности портретов и вообще изображения человеческих фигур. Рисунки животных, цветов и видов природы черкесы еще переносили, но как только увидят запрещенные Кораном суреты — так они называют картины, – с фигурой человека, так тотчас же старались соскоблить или замарать их[68].
– Откуда берешь ты смелость, – спросил однажды черкес своего русского пленного, – так похоже изображать человека, созданного по подобию Аллаха? Души ты не можешь ведь дать твоему изображению. Смотри, когда ты умрешь, на том свете твои суреты отнимут у тебя покой, требуя для себя бессмертной души, а откуда ты ее возьмешь?..
Глава 4
Характер черкеса. Черкесская женщина и ее одежда. Свобода девушек. Сватовство. Продажа пленных. Похищение невест. Свадебные обряды. Музыка, пение и пляски. Черкесские песни
Шаткость религиозных убеждений и жизнь, полная опасностей, придали характеру черкеса такие особенности, которые в основании своем противоречат друг другу. В народе, не имевшем никаких властей, каждый должен был заботиться о себе и об общественной пользе, заводить связи и употреблять силу слова для защиты своих интересов. Это развивает присутствие духа, быстроту соображения, а постоянные физические упражнения способствовали развитию гибкости и силы. Черкесы богато одарены как умственными способностями, так и красотой, но все их таланты употреблялись на разбой и войну. Семейство, в котором ни один из членов не был убит или ранен в сражении с врагами, вторгшимися в пределы его родины, не пользовалось уважением соотечественников.
Привыкшие с детства бороться с опасностью, черкесы никогда не хвастались. О своих подвигах черкес никогда не говорил, никогда не прославлял их, считая такой поступок неприличным. Самые смелые джигиты отличались необыкновенной скромностью, говорили тихо, готовы были каждому уступить место и замолчать в споре, зато на действительное оскорбление отвечали оружием с быстротой молнии, но без угроз, крика и брани. Заслуги своих великих людей черкесы воспевали обычно после их смерти, впрочем, рассказывают, что в древности знаменитейший из витязей Бхезинеко-Бексирз удостоился этой чести при жизни. Он был уже в глубокой старости, когда его сыновья поручили певцам сложить песню об отце. Старец, узнав об этом, призвал певцов, приказал им пропеть сложенную песню и, найдя в ней описание подвига, который унижал одного из соперников его славы, приказал выкинуть это из песни. Скромность почиталась между черкесами лучшим украшением человека.
Будучи чрезвычайно впечатлителен, черкес легко увлекался, но скоро и остывал. С соплеменниками был вежлив, почтителен к старшим, откровенен, говорил смело и резко то, что думал. С русскими был всегда вероломен, холоден, натянут. Скорый на обещания, об исполнении обещанного думал мало. С необычайной гибкостью переходил он от пирушки к деятельности, от молитвы к воровству, от благочестия к злодеянию. Религия была его единственной опорой, но, когда он не боялся, что его увидят соотечественники, легко уклонялся от исполнения религиозных обрядов и правил. Эта черта характера проявлялась и в бою. В составе партии, вынужденный сражаться на глазах своих товарищей, черкес выказывал удивительную храбрость и совершал необыкновенные подвиги самопожертвования. Он знал, что храбрость его будет с избытком вознаграждена молвой, но на одиночном грабеже, где свидетелей не было, черкес старался поскорее убить, ограбить или украсть что попало и убраться, избегнув погони.
За деньги черкес шел на убийство, на измену, однако, получив деньги, готов был раздать их кому придется. Ведя непрерывную войну с русскими, черкесы часто за деньги были лучшими проводниками для купцов, доставлявших скот гарнизонам крепостей[69]. Проявления скупости были крайне редки среди черкесов, да и невозможно быть скупым, когда в обычае укоренилось правило, что порядочный человек должен подарить вещь по первому слову или намеку нуждающегося. Стоило только похвалить чекмень, бурку, лошадь или другую вещь, как черкес тотчас же дарил ее вам. Такая щедрость составляла весьма важное условие в жизни черкеса, потому что бедный, ничего не имеющий человек мог тотчас же получить лошадь, оружие, одежду и таким образом снарядиться на войну или разбой, а последнее уже давало ему средства к существованию. Если он не получал в подарок просимого, то мог взять вещь на время – на два и даже на три года, а лошадь можно было одолжить для езды, в чем никто не отказывал, зная, что, когда он обзаведется собственным имуществом, то с лихвой вознаградит тех, кто способствовал этому. И если, с одной стороны, черкес не дорожил имуществом, то, с другой, когда дело касалось его самолюбия, он готов был тягаться двадцать лет за какого-нибудь украденного у него теленка, лишь бы только не уступить противнику, и тогда спорам и разбирательствам не было конца. Несмотря на видимое легкомыслие, черкес обладал характером, в котором скрывалась твердая настойчивость и необыкновенное терпение. Последнее, особенно в страданиях, считалось у черкесов одним из главных достоинств молодого человека. Насильно оторванный от родных гор, черкес тоскует. Известно много примеров, как, изгнанный из сообщества и не имеющий возможности явиться на родину, ночью приезжал на свои родные поля, просиживал ночи напролет вблизи аула, где провел молодость, и с рассветом уезжал.
Черкесу, жившему в маленькой независимой общине, родина казалась большой, он видел, что она независима, воюет и заключает мир с такими же соседями, как она сама, – и это придавало ему гордости и сознания собственного достоинства. Все иноземное, иноплеменное черкес ненавидел, гордился своей родиной, где считал себя не последним человеком, часто играющим весьма важную, по его понятиям, роль. Чувство собственного достоинства развило в характере черкесов заносчивость, а неограниченная свобода сделала их неуживчивыми, самонадеянными и в высшей степени гордыми.
Женщины не меньше мужчин гордились своим происхождением, отлично знали старшинство княжеских и дворянских родов и значимость каждого из них. Такие сведения передавались из поколения в поколение.
Манеры черкесских девушек были исполнены и скромности, и достоинства. Их красота с давних пор не имела соперниц: правильные черты лица, стройный стан, маленькие руки и ноги, поступь, походка и все движения, которые были исполнены гордости и благородства. Все, кто видел черкесских женщин, свидетельствуют, что среди них встречаются такие красавицы, при виде которых невольно в изумлении останавливаешься. «Про черкешенок, – говорит очевидец, – можно сказать, что они вообще хороши, имеют замечательные способности, чрезвычайно страстны, но в то же время обладают необыкновенною силою воли».
Однако красоте черкешенок очень вредила оспа, от которой не принималось никаких мер. Обычай надевать на девушку корсет с ранних лет и не снимать его до замужества приводил к тому, что грудь красавицы не развивалась.
Корсет, который надевают под рубашку, носит название пша-кафтан (девичий кафтан). Пша-кафтан делали из кожи, холста или другой ткани с шнуровкой спереди и двумя гибкими деревянными пластинками, сжимающими грудь. Тонкая талия и плоская грудь, по понятиям черкесов, первое условие девичьей красоты[70]. Знатные девушки шили иногда корсет из красного сафьяна или бархата и обшивали его серебряными и золотыми галунами, в этом случае он был с короткими полами и серебряными застежками на груди. Такой корсет надевался поверх рубашки под верхнюю одежду, преимущественно на праздники. Хотя корсет вместе с ростом девочки меняли, он препятствовал развитию груди, а главное, стеснял движения.
После свадьбы супруг распарывал кинжалом шнур корсета, но делал это осторожно, чтобы не порезать тела или сафьяна. Неловкость при этой операции приносила большое бесчестье. Рассказывают, что после того, как корсет снимают, грудь у женщины вырастает за две недели.
У абадзехов и у некоторых шапсугских семей девушки корсетов не носили.
Черкесский женский костюм чрезвычайно живописен. Поверх широких, суженных книзу шаровар надевается длинная белая рубашка из бязи или кисеи с вырезом на груди, широкими рукавами и небольшим стоячим воротничком. На талии рубашка стягивается широким поясом с серебряной пряжкой. Поверх рубашки надевается шелковый бешмет яркого цвета. Бешмет шьется выше колена, с короткими, выше локтя рукавами, полуоткрытый на груди и украшенный продолговатыми серебряными или другими металлическими застежками. На ногах легкие красные сафьяновые чевяки, обшитые галуном, на голове круглая шапочка с небольшим околышем из смушек, обложенная серебряным галуном, верх шапочки повит белою кисейной чалмой с длинными концами, падающими за спину. Из-под шапочки вьются волосы, всегда распущенные по плечам, и придают много прелести костюму и красоте девушки[71].
Черкесы не скрывали своих девушек, девушки не носили покрывала, бывали в мужском обществе, плясали с молодыми людьми и свободно ходили в гости. Замужние женщины были скрыты от посторонних глаз в сокровенных комнатах сакли. Выходя из дому, женщина должна была закрываться, потому что, по словам Магомета, «прелюбодеяние глазами преступнее прелюбодеяния действиями»[72].
Черкесские девушки были очень целомудренны, несмотря на предоставленную им свободу. Нравственность жен была также довольно строга, однако бывали и случаи нарушения супружеской верности, особенно у шапсугов, где женщины необыкновенно хороши. Там, несмотря на ревность мужей, неверность жен часто служила поводом к кровавым сценам. Еще не так давно женщины пользовались у шапсугов гораздо большей свободой, и каждая должна была иметь любовника. Это служило символом достоинства женщины, и мужья гордились тем, что их жены любимы другими мужчинами. Теперь же любовь к другому мужчине считается неприличной, и ее надо скрывать. Но то, что позволялось женщине, во все времена считалось постыдным для девушки, и потому они всегда тщательно сохраняли целомудрие. С ранних лет все мечты девушки были только об одном: выйти замуж за бесстрашного воина и попасть в его объятия чистой. Малейшие знаки внимания со стороны мужчины внушали девушке робость, и она со страхом отталкивала от себя соблазнителя.
– Харам (нечисто, запрещено)! – говорила она. – Станешь моим мужем, все будет твое, а теперь ничего не позволю.
Черкесы редко рано выдавали дочерей замуж и часто предоставляли им право самим выбрать жениха. На аульных свадьбах девушка могла видеть молодых людей, которые, в свою очередь, давали ей заметить свою любовь взглядами и выстрелами в ее честь, когда она танцевала, но разговор и какие бы то ни было объяснения с девушкой не допускались. Через друзей и доверенных лиц молодой человек узнавал о чувствах девушки и тогда уже сватался. Хотя по большей части родители и не препятствовали дочери выбирать себе жениха, но случалось, что, дав слово одному, способствовали другому, более богатому и знатному, в похищении дочери, и девушка становилась женою похитителя. По принципам гражданского и уголовного права черкесов, невеста была неотъемлемой собственностью жениха. Если в то время, когда невеста еще находилась в доме родителей, она была похищена другим, жених был не только вправе преследовать похитителя, но даже обязан ему мстить. Такое оскорбление относилось к числу несмываемых обид, и для восстановления попранной чести жених должен идти на самые крайние меры. Такие ссоры часто имели кровавые последствия. Родители, содействовавшие похищению, лишались калыма, а невеста принадлежала по праву первому жениху, если похититель не успевал на ней жениться[73].
Следующая легенда хорошо иллюстрирует характер и поступки обиженного.
Давно, очень давно, в те блаженные времена, когда черкесские красавицы славились далеко, когда вся страна блистала ими, как небо в темную ночь блистает звездами, а наездники как вихрь летали по Черкесии, оставляя за собою кровавые следы, как луна среди звезд блистала прекрасная Гюль и как молния сверкал знаменитый наездник Кунчук.
Гюль часто засматривалась на удалого Кунчука, а он был неравнодушен к прелестной девушке. Сердца их стремились друг к другу, и вот Кунчук, казалось, был уже близок к блаженству, потому что был женихом прекрасной Гюль. Он мечтал уже о счастье скоро назвать ее женою, как вдруг несчастье обрушилось на его голову.
Однажды паша Азова был в гостях у соседа Кунчука. На празднике была и прекрасная Гюль. И поразила пашу своей красотой.
– Чья она? – спросил паша.
– Невеста Кунчука, – отвечали ему.
– Сколько стоит? – спросил опять паша.
Покупка турецкими сановниками черкешенок не была редкостью, продажа пленных просуществовала в Черкесии почти до наших дней. Жители северо-восточного берега Черного моря с древнейших времен вели широкую торговлю людьми, и многие греческие колонии, покрывавшие этот берег, обязаны были своим процветанием лишь этой торговле. Гаремы наполнялись черкешенками, торговля которыми после основания турками крепостей Анапа и Сухум стала еще более интенсивной.
Сцены торговли женщинами ежедневно повторялись на черкесском берегу, несмотря на все старания наших крейсеров положить конец этой торговле. «Не оправдывая черкесов в этом деле, – говорит очевидец, – я не буду и строго судить их. У мусульман девушка, выдаваемая замуж, равномерно продается: отец, брат или ближайший родственник, у которого она жила в доме, будучи сиротою, берут за нее калым (плату, выкуп). Черкесы притом же редко продавали своих дочерей, а продавали туркам преимущественно рабынь или пленниц, отдавая их в руки своих одноверцев». В этой продаже, с точки зрения продаваемых, не было ничего оскорбительного их достоинству. Проданные почти всегда первенствовали в гаремах богатых турок, а если им выпадала несчастная судьба, никто не винил продавца, объясняя, что проданной так было написано на роду. Почти каждая черкешенка, идущая на продажу, мало горевала, теша себя надеждой на будущее благополучие.
– Здесь я рабыня, – говорила она, – а там, говорят, непременно буду госпожой, мне дадут хорошие платья, денег, я стану пересылать их отцу и матери, а если будет много денег, так выкуплю их на волю и перевезу к себе за море.
При таких понятиях о самой унизительной для человеческого рода торговле неудивительно, что паша, свыкшийся с нравами черкесов, мог спросить, сколько стоит Гюль: он знал, что за деньги можно купить любую черкешенку. Однако на этот раз громкий смех присутствующих был ответом на вопрос паши. Но плененный красотой девушки паша решил во что бы то ни стало приобрести красавицу. Часто там, где не продают явно, торгуют тайно – не один воз бархата, парчи, сукна и всякого добра перешел тайком из кладовой паши в саклю отца Гюль. Она была продана…
Однажды утром, когда отец нарочно скрылся из дому, в комнату Гюль вошел черкес.
– Кунчук требует скорейшего соединения, – сказал он ей шепотом, – отец твой скряга, он рад будет, если ты убежишь к жениху и тем избавишь его от издержек на свадьбу.
Гюль согласилась и с нетерпением ждала наступления ночи, но день тянулся невыносимо долго. Когда темнота покрыла землю сорока покровами, а каждый из них был чернее совести кади, к терновой ограде дома, где жила красавица, подъехало десять всадников. Гюль вышла к ним навстречу и миг спустя уже мчалась по степи. Сердце ее билось от радости, что скоро увидит милого. Но она ошибалась: то были не Кунчуковы посланные, а ногаи, подосланные пашой, и с ними тот черкес, который утром приходил обмануть красавицу. Гюль очутилась не в объятиях Кунчука, а в ненавистном ей гареме паши.
Долго несчастная не могла свыкнуться со своим положением, едва паша приближался к ней, как она грозила ему кинжалом и клялась зарезаться, если он подступит к ней еще хоть на шаг. Бледная как смерть, она тосковала и проводила бессонные ночи. Так прошло несколько дней, и тот, кто был виной несчастья красавицы, стал орудием ее освобождения. Предавший и обманувший Гюль черкес надеялся стать любимцем паши и первым богачом Азова, но ошибся в своих мечтах.
– Ты вчера продал свою госпожу, – сказал ему паша, – а завтра продашь и меня, если кто посулит тебе много золота: знаем таких!
Затаив обиду, черкес остался служить в страже паши, но с твердым намерением отомстить – он стал теперь сообщником Кунчука.
Опозоренный жених метался, искал случая возвратить красавицу и жестоко отомстить похитителю. Предложение черкеса было принято с радостью, хотя в душе он презирал изменника.
В одну ночь на одной из стен крепости стоял часовым изменник-черкес. Он тихо спустил в ров лестницу и осторожно, как змея, пополз к группе панцирников, притаившихся на земле неподалеку от крепости. Шепнул что-то на ухо Кунчуку – и сто броней заскользили по траве так тихо, что и сама трава не слышала шелеста и звона кольчуг.
Изрубить стражу, разбить двери гарема и поджечь со всех сторон город было минутным делом для отважной шайки – и прекрасная Гюль очутилась в объятиях Кунчука. Храброму джигиту было недостаточно, что он успел отнять и вернуть свою невесту: сердце его пылало мщением, и притом самым жестоким. Передав невесту в надежные руки товарищей, Кунчук в сопровождении изменника-черкеса пошел отыскивать пашу, чтобы отомстить за бесчестье.
– А, жирный пес! – с яростью закричал Кунчук, увидев пашу. – Ты не умел ценить моей дружбы, так умей почувствовать мою злобу.
Кунчук обнажил саблю.
– Мы с тобой еще успеем разделаться, но прежде мне надо отдать долг этому изменнику, – сказал паша, указывая пистолетом на черкеса.
Грянул выстрел, и проводник Кунчука рухнул…
– Вот ему награда за услуги, – проговорил паша, – а теперь твоя очередь.
Другой пистолет блеснул в его руке, но было уже поздно: сабля Кунчука тяжело опустилась на голову паши, и он повалился к ногам мстителя.
Азов пылал, в городе кипела тревога. Шайка Кунчука, захватив невесту, пленниц гарема и богатую добычу, спустилась по лестницам из крепости и скрылась в степи. Один Кунчук, оставшись на кургане, любовался плодами своей мести, с наслаждением смотрел, как огромные языки пламени лижут ненавистный ему Азов, но скоро и он оставил курган и присоединился к своим отважным удальцам.
Достигнув берега Кубани, партия расположилась на отдых. Наездники стреножили лошадей, построили два шалаша, один для красавицы, другой для Кунчука, и старались веселостью превзойти друг друга. Ночь прошла тихо и спокойно. Наутро черкесы заметили за собою погоню, но только тогда, когда она была уже совсем близко. Погоня настигла их, и черкесы падали под ударами неприятельских шашек. Кунчук отправил невесту и пленниц к переправе, но та оказалась отрезана и занята неприятелем. Переколов своих лошадей и укрывшись за их телами, черкесы дрались отчаянно, однако ряды их редели. Кунчук уговаривал прекрасную Гюль отдаться в руки неприятеля, но она не соглашалась. Тогда отчаянный любовник, обхватив одной рукой ее стан, а другой рубя своей страшной саблей, бросился сквозь толщу врагов к берегу Кубани. Пораженный смелостью наездника, враг расступился, Кунчук уже на берегу… но берег высок, внизу кипят бурные волны глубокой реки, а сзади мечи неистовых врагов… и он с разбега бросился с обрыва. Волны с шумом расступились и, скрыв навсегда под собою двух любовников, бурно пенясь и клокоча, потекли обычным путем…
С тех пор крутой мыс, видный с восточной батареи Павловского поста, в пяти верстах от него вверх по течению Кубани черкесы называют Купчуков спуск[74].
Месть в подобных случаях не разбирала ни родства, ни дружбы, оскорбленный жених не щадил ни брата, ни дяди, и только тогда смывал с себя бесчестие, когда убивал своего обидчика. В тридцатых годах настоящего XIX века произошла памятная многим вражда между двоюродными братьями Хамурзиными, кабардинскими князьями. Адель-Гирей и Аслан-Гирей, так звали братьев, поселились на Урупе. Между ними с самого детства возникло соперничество. Аслан-Гирей был умен, пользовался военной славой, но известен был как человек злой и мстительный. Адель-Гирей, имея меньше ума, превосходил своего противника добротой и редкою красотой лица. Примерно в это же время появилась на Лабе известная красавица Гуаша-Фуджа (белая княгиня), сестра бесленеевского князя Айтеки Канукова. Оба брата почти одновременно домогались руки Гуаши-Фуджи, которой нравился Адель-Гирей. Но так как Аслан-Гирей был богаче, имел вес у русских, пользовался влиянием у черкесов и никому не прощал нанесенной обиды, то явно отказать ему посчитали опасным. Поэтому, не оскорбляя Аслан-Гирея, Кануков обещал выдать за него сестру с условием, если она будет на то согласна, а Адель-Гирею способствовал ее увезти, в чем приняли участие все кабардинцы, не любившие Аслан-Гирея. Последний, узнав об этом происшествии, поклялся, что брат его недолго будет пользоваться своим счастьем. Преследуя его везде, пока друзья, по черкесскому обычаю, старались примирить их по шариату, Аслан-Гирей отыскал Адель-Гирея, напал на него и ранил выстрелом из ружья. Тот, обороняясь, ранил, в свою очередь, Аслан-Гирея, бывшие при этом кабардинцы разняли их прежде, чем дошло до убийства. Аслан-Гирей и слышать не хотел о примирении и стал мстить всем, кто содействовал похищению Гуаши-Фуджи. На Урупе образовались две враждебные партии, и грабежи и убийства происходили каждый день. Преследуемый повсюду, Адель-Гирей с женой бежал в Чечню, за Терек. Тогда Аслан-Гирей из мести Адель-Гирею убил его отца и своего дядю и сам бежал к абадзехам. Так кончилась кровавая вражда двух братьев.