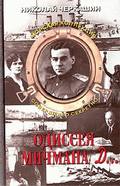Николай Черкашин
Агентурная кличка – Лунь (сборник)
Глава шестая
«По дороге на Берлин вьется серый пух перин»
В одно прекрасное утро, когда канонада внезапно стихла – с трудом верилось, что навсегда – Лунь выбрался из мельничного подвала и осторожно обошел дом и пруд. По дороге, огибавшей мельничное водохранилище, двигались советские танки, а за ними колонны на невиданных грузовиках с длинными щучьими мордами. Лунь никогда не видел американских «студебеккеров», как не видел и новых тяжелых танков «ИС». Он испытал невольное чувство гордости за свою армию, которая получила такую серьезную технику. Но вместе с тем ему, увы, надлежало играть роль испуганного немецкого бюргера, и роль эта ему вполне удавалась.
Ближе к обеду он вышел на разведку в город. Если не считать разбитых окон да сорванной кое-где черепицы, Фридлянд почти не пострадал. Правда, дом аптекаря стоял без угла, обнажив рухнувшие полки с лекарствами, да посреди Ратушной площади зияла огромная воронка с россыпью вывороченной торцовой брусчатки, а в остальном все было как всегда. Витрины всех лавок были зашторены железными жалюзи. Но на площади возле кирхи что-то происходило: там толпился народ и пиликала гармошка, ровным столбом поднимался синеватый дымок. Возле дымящей полевой кухни, сидя на недорубленном березовом чурбаке, гармонист с сержантскими погонами на замызганном полушубке рьяно рвал меха видавшей виды саратовской гармошки. Залихватские переборы под молодецкое рявканье басов поддерживал жесткий прихлоп солдатских ладоней; и два удальца – один в подвернутой шинели, другой в стеганом ватнике, но оба в добротных сапогах, лихо отплясывали ведомый только им одним танец: нечто среднее между лезгинкой и «барыней». Редкие горожане, привлеченные запахом еды, посматривали на них с опаской и любопытством, держась, однако, поближе к дымящим и парящим кухням.
От этой нехитрой деревенской игры, от этой удалой солдатской пляски повеяло чем-то таким родным и забытым, что Лунь едва и сам не вышел в тесный круг своих былых соотечественников. Вдруг припомнилась Сморгонь и его рота, стрелки, которые тридцать лет тому назад точно так же отплясывали после отвода в тыл, радуясь отсрочке смертной судьбы.
Тем более что и погоны, которые Лунь видел на советских солдатах впервые, были почти такие же, как и у его нижних чинов…
Подъехала легковушка, из которой вылезли пожилой капитан с пристегнутой к портупее шашкой и моложавый круглолицый подполковник. Погоны на его серой шинели были тоже очень похожи на те, которые носили офицеры их 36-го Орловского полка в 1916 году: только чины назывались иначе. Нынешний капитан по-старому бы назывался штабс-капитаном, а у белесого круглолицего подполковника не хватало третьей звездочки для того, чтобы быть подполковником старой русской армии. И еще выскочил из машины старший лейтенант (по-старому – поручик) и стал фотографировать «лейкой», то подполковника на фоне истерзанной осколками и пулями ратуши, то немецких жителей, сиротливо жавшихся к кухням, то сами кухни, то пляшущих бойцов.
Судя по всему, капитан был комендантом города. Его сопровождали трое патрульных, соскочивших с сопровождавшего машину мотоцикла. Капитан обратился к немецкой толпе с просьбой:
– Граждане немцы! Сейчас состоится раздача горячей пищи населению вашего города. Просьба соблюдать порядок и встать к кухням в порядке живой очереди!
Он прокричал все это по-русски в надежде, что кто-то его поймет, но тщетно – его не понимали. Горожане как стояли, так и переминались с ноги на ногу. Комендант еще раз повторил свою тираду и обескураженно обвел взглядом толпу. Никто не пошевелился. И тогда Лунь подошел к коменданту и громко сообщил все, что требовалось по-немецки. Толпа тут же разбилась на две группы и выстроилась в два хвоста. Капитан благодарно взглянул на Луня и попросил:
– Скажите им, что с завтрашнего дня в ратуше начинает работу комендатура и они могут обращаться ко мне по всем вопросам.
Лунь перевел. Но немцы никак не прореагировали на это сообщение. Они ждали горячей еды.
– Вы по-русски говорите? – спросил комендант Луня.
– Ньемного говорью.
– Очень хорошо! Хоть кто-то знает здесь наш язык, – обрадовался капитан. – Подойдите к кухне без очереди и возьмите каши.
– У мьеня больной жена. Можно мне взять и для нее?
– Можно! Дай ему две порции! – крикнул капитан кашевару. – И мяска побольше!.. Как вас зовут гражданин?
– Клаус Вебер. Можно по-русски – Колья. Николай, – повеселел Лунь. – Колья, Колья, Николай, сидьи дома, не гульяй…
– К тебе девушки придут, поцелуют и уйдут! – радостно подхватил капитан. – Слушай, Николай! Приходи завтра в комендатуру, то бишь в вашу ратушу. Я людей буду принимать. Мне переводчик нужен. Заплачу продуктами.
«Это спасение!» – подумал Лунь, и ответил, забыв про немецкий выговор:
– Обязательно приду.
Тут капитан обратился к круглолицему офицеру.
– Товарищ подполковник! Александр Трифонович, почитайте бойцам стихи. Пожалуйста! Они никогда живого поэта не видели!
– Да пусть смотрят сколько хотят, пока живой! – усмехнулся подполковник.
– Нет. Они вас послушать хотят. Вы же про нашу жизнь как никто пишите! Они вас любят. Почитайте!
– Ну, раз любят – почитаю. А кашей накормите?
– Еще и фронтовые сто грамм нальем!
– Ну, ладно! Почитаю. На злобу дня, – подполковник расстегнул планшетку, достал блокнот, поворошил страницы.
– Это наш поэт знаменитый! – толкнул комендант локтем своего переводчика. – Твардовский! Может, слышал?
Лунь растерянно покачал головой, он и в самом деле никогда не слышал такого поэта. Шутка ли – с тридцать пятого года за кордоном Отечества.
Подполковник встал на приступку кухни, снял фуражку, открыв густые русые, зачесанные назад волосы. Оглядел военную публику, уже обступившую кухню со всех сторон, и с улыбкой начал, будто не стихи читал, а просто разговор повел:
Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.
Суп – во-первых, во-вторых,
Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик
Чуткий – это точно.
Слышь, подкинь еще одну
Ложечку такую!
Тут поэт в подполковничьих погонах взял лежавший поверх котлов черпак и показал слушателем, от чего те пришли в веселый восторг. Твардовский, не теряя темпа, продолжал дальше:
Я вторую, брат, войну
На веку воюю.
Оцени, добавь чуток.
Покосился повар:
«Ничего себе едок —
Парень этот новый».
Ложку лишнюю кладет,
Молвит несердито:
– Вам бы, знаете, во флот
С вашим аппетитом.
Тот: – Спасибо. Я как раз
Не бывал во флоте.
Мне бы лучше вроде вас,
Поваром в пехоте.
И, усевшись под сосной,
Кашу ест, сутулясь.
«Свой?» – бойцы между собой, —
«Свой!» – переглянулись.
И уже, пригревшись, спал
Крепко полк усталый.
В первом взводе сон пропал,
Вопреки уставу.
Привалясь к стволу сосны,
Не щадя махорки,
На войне насчет войны
Вел беседу …
– Тёркин!!! – радостно заорали, зарукоплескали слушатели-бойцы. – Еще давай! Еще!
Твардовский отмахнулся от настырного дыма, который вдруг повалил из трубы, как из паровоза, – это повар подбросил дровишек. Стихи стихами, а кашу варить надо.
– Ну, тогда слушайте то, что сегодня написал, в вашем городке.
По дороге на Берлин
Вьется серый пух перин.
Провода умолкших линий,
Ветки вымокшие лип
Пух перин повил, как иней,
По бортам машин налип.
И колеса пушек, кухонь
Грязь и снег мешают с пухом.
И ложится на шинель
С пухом мокрая метель…
Твардовский запнулся, пригладил волосы, оглядел с высоты подножки площадь и дальше повел речь о том, что стояло перед глазами:
Скучный климат заграничный,
Чуждый край краснокирпичный,
Но война сама собой,
И земля дрожит привычно,
Хрусткий щебень черепичный
Отряхая с крыш долой…
Мать-Россия, мы полсвета
У твоих прошли колес,
Позади оставив где-то
Рек твоих раздольный плес.
Долго-долго за обозом
В край чужой тянулся вслед
Белый цвет твоей березы
И в пути сошел на нет.
С Волгой, с древнею Москвою
Как ты нынче далека!
Между нами и тобою —
Три не наших языка…
Лунь слушал, поражаясь давно неслыханной чистоте русской, да еще поэтической, речи. Так просто, без напряга, лил этот круглолицый подполковник свою песнь. «Ленин с броневика вещал, – усмехнулся он. – А этот с полевой кухни к массам обращается. И ведь как слушают! Любой вождь позавидует!»
Поздний день встает нерусский
Над немилой стороной.
Черепичный щебень хрусткий
Мокнет в луже под стеной.
Всюду надписи, отметки,
Стрелки, вывески, значки,
Кольца проволочной сетки,
Загородки, дверцы, клетки —
Все нарочно для тоски…
Лунь посмотрел вокруг глазами подполковника, и вдруг ему открылось чужое зрение: «да как же он раньше этого не замечал?! Вот же, приехал откуда-то этот круглолицый и сразу же перенес все эти приметы здешнего бытия в свои стихи! Вон же они – и стрелки, и вывески, и значки, и даже кольца проволочной сетки! И все нарочно для тоски. Лютой тоски… Как же он это почувствовал?! Да еще передал всем – от сердца к сердцу…»
Мать-земля родная наша,
В дни беды и в дни побед
Нет тебя светлей и краше
И желанней сердцу нет.
Помышляя о солдатской
Непредсказанной судьбе,
Даже лечь в могиле братской
Лучше, кажется, в тебе.
А всего милей до дому,
До тебя дойти живому,
Заявиться в те края:
– Здравствуй, родина моя!
Солдаты захлопали не в лад. Кто-то крикнул в честь автора «ура!» И восторженный клик этот тут же подхватили в полсотни глоток. И Лунь заорал тоже. Твардовский слез с подножки, надел фуражку и взял под козырек своим слушателям.
* * *
Лунь принес домой целый котелок неостывшей еще гречневой каши. Он распустил ее в кипятке и получился суп, которого хватило на троих. Мария воспрянула духом и от горячей еды, и от хороших новостей. Шутка ли – в такое время получить работу?! Да еще с продовольственным пайком…
В комендатуру Лунь являлся точно к восьми утра и сразу же принимался за дело: переводил объявления, приказы, допрашивал в присутствии коменданта немецких солдат, захваченных с оружием в окрестных лесах, переводил сообщения и просьбы оставшихся в городе специалистов по муниципальному хозяйству. Комендант – Иван Матвеевич Окунев, бывший директор сельской школы из Краснодарского края, – во все проблемы вникал ушло и дельно. Лунь же в конце рабочего дня получал свой честно заработанный паек: буханку серого хлеба, банку тушенки и стакан крупы – пшенки или гречки. А также шесть кусочков пиленого сахара. В день, когда Германия подписала капитуляцию и весь Фридлянд громыхал радостной пальбой из всех видов стрелкового оружия, комендант вручил Луню две бутылки: одну – с водкой, другую – с подсолнечным маслом. Лунь честно выпил за Победу, объявив Марии и дяде Паулю, что пьет за окончание войны и избавление Германии от Гитлера. Дядя Пауль охотно поддержал его, Мария тоже пригубила «русский шнапс» и нашла его слишком крепким.
Так или иначе, теперь уже начиналась совершенно новая жизнь – абсолютно для всех.
Глава седьмая
На круги своя…
К лету 1946 года Фридлянд стал заштатным городишком Кёнигсбергской области и вошел в состав Советского Союза. Впрочем, коренным его жителям, немцам, еще разрешался переезд в Германию как Восточную, так и Западную после соответствующей проверки на денацификацию. Мария умоляла мужа уехать в Берлин, и Лунь, почтя это за благо, подал заявление на выезд. В тот же день его пригласил к себе комендант и стал просить остаться еще на полгода, поскольку не мог себе пожелать лучшего переводчика.
– Всего полгода, – упрашивал Иван Матвеевич, – пока я еще здесь. А потом вместе уедем: вы – в Германию, я – в Россию. Обещаю вам оформить ваши документы без проволочек и без проблем. Побудьте еще немного. Без вас, как без рук!
Комендант и жалованье обещал прибавить. Лунь согласился. Но через три дня капитан Окунев пригласил Луня в кабинет и, чем-то весьма расстроенный, сказал:
– С вами хочет побеседовать один человек, – при этом деликатно вышел, оставив своего незаменимого переводчика наедине с другим капитаном – с эмблемами танкиста на золотых погонах.
– Антон Сергеевич, – не по-военному представился танкист и сделал добрые глаза. – Слышал о вас много хорошего от нашего коменданта. Я понял, что вы хотите уехать в Берлин, а Иван Матвеевич вас отговаривает. Где вы собираетесь жить в Берлине?
– Во Фронау. У нас там дом.
– Замечательно! – почему-то обрадовался капитан. – Прекрасный пригородный район. Правда, теперь там весьма плотно обосновались американцы… Я бы мог помочь ускорить ваш отъезд, если бы и вы согласились помочь мне, точнее, нам. Для вас, наверное, не секрет, что в Западном Берлине сейчас много американских военных частей. Нам сейчас очень важно знать, где именно они расположены и что из себя представляют…
Капитан внимательно заглянул в глаза собеседнику. Лунь с трудом удержался от улыбки: его вербовали! Предлагали поработать на родной Разведупр, на который он и без того проработал столько лет! Нет, нет, конечно же, вербовали не его, а немецкого гражданина Вебера, но в итоге же – все равно его, Луня! Забавная ситуация!
– А если мною заинтересуются американцы? – с напускной робостью спросил он.
– У вас хорошая репутация! И потом, мы вас всегда прикроем! Мы своих не бросаем!
«В сороковом уже прикрыли! – вертелось на языке. – Орлана вы тоже не бросили, а взяли да и пустили в расход!..»
– Вы мне дадите немного времени подумать, господин капитан?
– Да, конечно! Подумайте и знайте, что жить в Берлине сейчас очень нелегко. Мы могли бы помочь вам там и с деньгами, и с продуктами.
– Я учту, господин капитан. До завтра!
– Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор – только между нами!
Разумеется, Лунь ни словом не обмолвился Марии о полученном предложении. Он уже давно мысленно сказал ласковому капитану свое «да». Да, он согласен вернуться на свою прежнюю службу, хоть и в иной личине. Так или иначе, но все же перед ним забрезжил шанс вернуться на родину. Возможно, даже простят его невозвращенчество. Тут надо хорошо отличиться… Всю ночь Лунь почти не спал, прикидывая все «за» и «против». Мария даже забеспокоилась – не заболел ли он?
– Не заболел. Обдумываю, как бы нам побыстрее вернуться домой. Мне еще предстоит пройти комиссию по денацификации. Если они узнают, что я служил в вермахте…
– Я тебя очень хорошо понимаю… Но все же утро вечера мудренее! Спи!
Ночью ему приснился Орлан и старый добрый Кёнигсберг. Как уютно, как хорошо там работалось! Увидел он и свой антикварный магазин… Вдруг в его нижнем кабинете – из стены вылез? – появился гестаповец Краузе. Он облокотился на прилавок и саркастически улыбнулся:
– Вы что же, любезный, решили от нас улизнуть? Думаете, что если война закончилась, то мы вас не достанем?! А в Плетцензее не хотите?! Место английским шпионам на острове мертвых!
И тут, к своему великому ужасу, Лунь заметил, что в углу магазина, среди старой рухляди стоит небольшая портативная гильотина. И Краузе ведет его к ней…
Лунь проснулся от собственного крика.
– Боже, что с тобой?! – испугалась Мария.
– Мне приснилось, что я – английский шпион, – усмехнулся Лунь.
– Я всегда тебе говорила, не спи на левом боку. Не будут сниться кошмары.
Утром, как всегда к 8 часам, Лунь отправился в комендатуру, разыскал Антона Сергеевича и дал свое согласие работать на советскую военную разведку.
Через три дня с группой немецких репатриантов они с Марией отъезжали в Берлин с кенигсбергского вокзала Нордбанхоф. За подкладкой старенькой армейской шинели лежала увесистая пачка долларов, которую выдал Луню капитан-танкист на первые берлинские расходы. Как и всем прочим репатриантам, им позволили взять по чемодану на человека. В чемоданы были уложены одежда и продукты. Марии разрешили взять сумку с деревцем комнатного лимона. Все собравшиеся на перроне были тревожно-радостны. Они держались кучкой, подобно туристам или паломникам. После проверки вещей и документов их разместили в отдельном вагоне, и поезд тронулся после третьего удара вокзального колокола – подвешенного куска рельса. Пока ехали по Кёнигсбергу, Лунь жадно всматривался в окно в руины города. Они напоминали ему руины Минска в лето сорок первого – такие же уродливо обглоданные войной огрызки стен, коробки без крыш или фасады без подпор. Улицы частично были расчищены и по одной из них бежали вагончики старого довоенного трамвая. Некогда один из самых красивых, богатых и умных городов Европы был жестоко наказан за соучастие в военной авантюре Третьего рейха.
Берлин выглядел несколько лучше. Но закопченных руин, домов, превращенных в кирпичные курганы, и там хватало. Перед въездом на территорию Западного Берлина репатриантов еще раз проверили советские пограничники, а потом и американские чины. Ничего запрещенного ни те, ни другие не обнаружили. Лунь очень боялся за пачку долларов, придумав не очень убедительную легенду, что купил шинель в Кёнигсберге на черном рынке. Однако до личного обыска дело не дошло.
Их вилла во Фронау, по счастью, уцелела, но ее основательно обчистили, унеся все ценное, даже картины из кабинета Вальтера. К чести Марии, она не стала убиваться и горевать. В ее жизни были и не такие потери. Лунь первым делом наведался на свои последние работы. Отеля больше не существовало, его здание сгорело. Госпиталь, в котором он работал лаборантом, стал теперь госпиталем для американских солдат. Двое из них, один явно мулат, другой – белобрысо-конопатый, вели оживленный торг с немецким парнем в сером армейском кепи вермахта. Белобрысый предлагал обменять кепи на американскую пилотку, но парню нужны были деньги, и он упрямо повторял:
– Мани, мани!
– У, курва! – не выдержал торга белобрысый и полез за деньгами.
По этому замечательному словечку Лунь признал в солдате поляка и заговорил с ним по-польски. Парень радостно откликнулся на «пана жолнежа» и сообщил, что ему нужна для сувенира еще и германская фуражка. Лунь вызвался ему помочь, познакомились. Американского солдата (он оказался в чине капрала), этнического поляка, звали Каролем, или на западный манер – Чарльзом. Он заказал еще и витые погоны старшего офицера вермахта. Обещал хорошо заплатить, и Лунь назначил ему свидание у ворот госпиталя через день. Слава богу, этого добра в чуланах виллы хватало. Он отыскал и почти новенькую фуражку Вальтера, и его старые майорские погоны, и даже пару парадных петлиц. Кароль-Чарльз пришел на встречу без опозданий. Они уединились на скамейке в ближайшем скверике, и Лунь выложил товар. Кароль пришел в восторг и купил все оптом, расплатившись долларами. Он заказал Железный крест любого класса и несколько разных эмблем вермахта. Лунь попросил пару дней, на том и расстались, довольные друг другом. Кароль служил в регистратуре госпиталя и мог оказаться весьма полезным знакомым.
Еще во Фридлянде Лунь получил от Антона Сергеевича подробные инструкции кому и как передавать информацию. Правда, передавать еще было нечего, но пробную закладку Лунь уже сделал. В записке было только одно слово: «Берлин». Но этого было достаточно, чтобы его западноберлинский куратор назначил ему встречу в бирштубе «Золотой гном» на Курдаме. Его новый шеф оказался типичным немцем с саксонским выговором.
– Вольфганг, – представился он, когда Лунь подсел к нему за обозначенный сигарным ящичком столик. Его невзрачное лицо – приплюснутый нос, маленькие серые глазки – никак не соответствовало звучному имени.
Встреча была недолгой. Лунь получил шифрблокнот с инструкцией как им пользоваться. Хотя прекрасно знал шифровальное дело и без инструкции для новичков.
– У вас есть проблемы? – спросил Вольфганг.
– Есть. Я весьма слаб в английском.
– Поступите на курсы. Их сейчас в Берлине немало. Вам есть чем оплатить учебу.
– И второе, мне нужен военный реквизит – Железные кресты, советские эмблемы и погоны – все, что интересует американских солдат в качестве сувениров.
– Я вас понял. С этим барахлом проблем не будет. Хороший, кстати говоря, ход. Действуйте!
Ход и в самом деле был хорош. Лунь купил велосипед (слава богу, спина позволяла крутить педали) и теперь привозил к госпитальному скверику чемодан, набитый военными побрякушками. Кароль, став обладателем заветного Железного креста, помогал подыскивать покупателей. Он называл Луню адреса частей, и тот осчастливливал того или иного заокеанского любителя военных сувениров. Изучив знаки различия и эмблемы американской армии, Лунь легко определял, где дислоцируются танкисты, где стоят артиллерийские части, где располагаются пехотные полки. Его донесения, составленные по всем правилам разведдокументов, приводили в восторг новых начальников. Надо же, всего-навсего какой-то там переводчик, а работает как настоящий профессионал!
Мария тоже была довольна: муж зарабатывал вполне приличные деньги, какие ей в ее поликлинике и не снились. И это на такой ерунде, как мелкая торговля военным реквизитом! Воистину, эти янки не дружат с головой!
Она завела новую кошку, такую же черную и желтоглазую, как Мице. И развела на всех подоконниках обширный лимонарий. Жизнь в Берлине постепенно налаживалась, хотя о войне напоминало слишком многое, чтобы забыть о ее ужасах.
Лунь щедро делился своей выручкой с Каролем, и тот сообщал ему адреса частей, откуда прибывали больные и куда они потом возвращались, не видя в том большой военной тайны. С ним вполне уже можно было общаться в открытую, и Лунь собирался «вербануть» его в самое ближайшее время, но тут Мария сообщила ему ошеломительную новость:
– Кажется, у нас будет ребенок! – торжественно объявила она. – Бог посылает его нам в награду за все мои потери.
В тот же день они пошли в кирху и оба долго и усердно молились, чтобы завязавшаяся новая жизнь благополучно явилась на этот свет. За свои полсотни прожитых лет Лунь ни разу не был отцом и теперь не хотел упускать такую возможность. Мария обещала продлить его такую зыбкую и бренную жизнь в новом существе. И в этом таилось некое вселенское чудо, осознать которое в полной мере Лунь был не в силах. Но он ясно понимал, что теперь его личная жизнь принадлежит не только ему одному, что отныне она всецело должна быть направлена на то, чтобы помочь этому неведомому пока существу, его новому «Я», пробиться в такой прекрасный и такой жестокий мир. Отныне он не имел права рисковать собой ради каких-либо иных интересов. А это означало, что из разведки надо было уходить раз и навсегда. И Лунь в третий раз давал себе слово, что он это сделает наконец. И станет обычным человеком, примерным мужем и добрым отцом. Он отказался вербовать Кароля. Он стал искать себе новую – безопасную – работу. И вскоре нашел ее – видимо, на небесах поддержали его решение – устроился поваром в придорожный гаштет на выезде из Западного Берлина.
Вольфгангу сообщил, что выходит из игры по семейным обстоятельствам. Вольфганг все понял и предложил иной вариант жизни – перебраться пока в Восточную Германию, где ему предоставят государственную квартиру и пенсию. В тот же день Лунь обрисовал перспективу новой жизни Марии и та, конечно же, была ошеломлена не меньше мужа. Оба не могли уснуть и всю ночь напролет обсуждали, где жить и как быть. Лунь понимал, что переезд в Восточный сектор – это выход из зоны риска. Там, конечно, тоже могли быть свои подвохи. Но все же это было намного безопаснее, чем попасть в лапы ФБР. Да, и поденная случайная работа в Западном Берлине не помогла бы прокормить семью из трех человек. Он склонялся к тому, что надо перебираться на восток. Мария была против… Она совершенно не доверяла коммунистам, побаивалась их. Но у нее была серьезная проблема, и Лунь удачно сыграл на ней. Акушер обнаружил у Марии неправильное положение плода. Роды предстояли трудные, а значит, дорогостоящие. В Восточном Берлине подобные роды могли принять бесплатно. И Мария согласилась, но только на время послеродового периода.
Так или иначе, но, собрав в два чемодана их нехитрое имущество, Лунь перевез Марию на такси в Кёпеник, один из районов Восточного Берлина. Здесь их временно поселили на одной из конспиративных квартир непонятно чьей разведки – то ли советской, то ли восточногерманской. В тот год была провозглашена Германская Демократическая Республика, и, возможно, квартира в Кёпенике принадлежала будущей штази. Так или иначе, но все необходимое для жизни они нашли на кухне, в гостиной и спальне. Даже цветы, к великой радости Марии, стояли на балконе в напольных горшках. К ним же добавилось и деревце комнатного лимона, которое Мария умудрилась вывезти в своем чемодане. Увы, это была последняя радость в ее жизни. В первый день зимы ее увезли в акушерскую клинику, но разродиться она не смогла. Ребенка – мальчика – спасли, а мать – нет.
Так Мария навсегда осталась в Восточном Берлине…
Изрядно погоревав, Лунь посвятил остаток жизни воспитанию сына, которого назвал в честь своего боевого друга – Сергеем. Через год немолодого отца-одиночку переселили в небольшой коттедж в закрытом поселке на берегу озера Штюрицзее. Со временем он обзавелся подержанным «трабантом» и совершал с мальчиком поездки в недалекий Берлин. Сережа в равной степени хорошо говорил и по-русски, и по-немецки. Лунь не чаял в нем души и полагал, что это самая главная награда, которую он получил на склоне своей авантюрной жизни. Он научил мальчика всему, что знал и умел сам: плавать и нырять в озере, фотографировать, ездить на велосипеде, ценить живопись, не бояться темноты, боли, собак и страшных чудовищ. При каждом удобном случае они пропадали на «Музейном острове» в Берлине, где в окружении двух рукавов реки Шпрее находились Старая Национальная галерея, Пергамский музей и музей Боде. То была лучшая школа для детского развития. Разумеется, ездили они и в Потсдам, и в Тир-парк, и в Трептов-парк, и Лунь рассказывал там Сергею о войне, о Бресте, о Победе над фашистами. Парень рос не по дням, а по часам. А когда пришла пора идти в первый класс, Лунь устроил сына в русскую школу советского гарнизона в Магдебурге. Он хотел, чтобы Сергей был русским. Как ни как, а в его жилах текла наполовину казачья кровь.
Когда мальчику исполнилось десять лет, Лунь решил показать ему Россию, свозить в Москву. А может быть, и на Хопер, если разрешат. Он оформил туристическую визу, и в один прекрасный день отец с сыном – оба с рюкзаками – сели в поезд, идущий в Москву… Сказать, что Лунь волновался – ничего не сказать. Сердце колотилось и прыгало, лишая его сна и покоя. В Москве он не был четверть века. Как встретит она их, прекрасная столица?