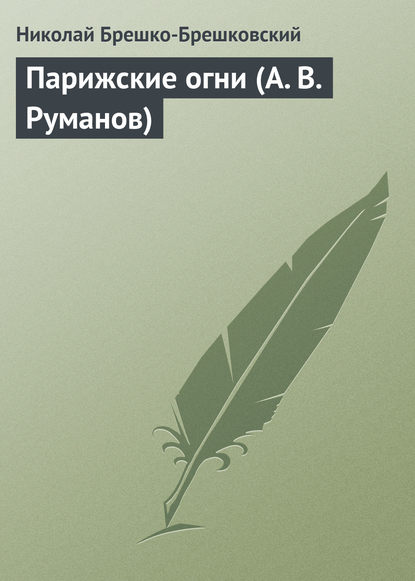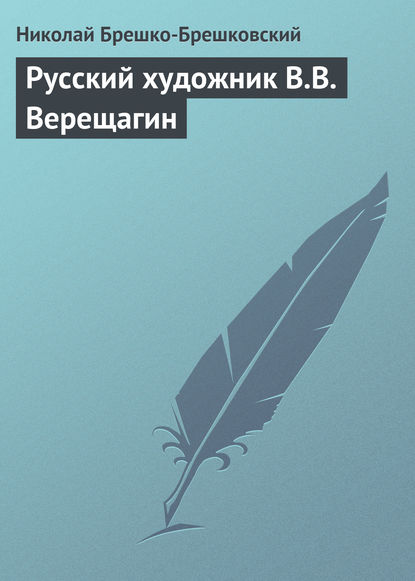Полная версия
Полная версия- Рейтинг Литрес:4
- Рейтинг Livelib:3.6
Полная версия:
Николай Николаевич Брешко-Брешковский Ремесло сатаны
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Николай Брешко-Брешковский
Ремесло сатаны
Современный злободневный роман в трех частях
Часть первая
1. Загадочный аббат
Аббат Алоис Манега как-то вдруг, совсем неожиданно, появился на петербургском горизонте.
Не было его. Никто и не подозревал о существовании аббата Манеги. И вот он здесь, на невских берегах, желанный гость в «салонах». Его видят на Морской и Набережной. О нем говорят, и даже очень.
Он был едва ли не наиболее модным человеком сезона. На аббата Манегу приглашали, как приглашают на знаменитого гипнотизера, на Шаляпина и – первое время, когда он был внове, – на гитариста Амичи.
Но что же такое аббат Манега? Увлекательный проповедник, интересный, обаятельный человек или прозорливец, которому дано врачевать мятущиеся, обуреваемые сомнением души?
В обществе он мало говорил и много молчал. Но в этом его молчании было что-то значительное…
Уметь молчать красноречиво это – своего рода искусство. Манега постиг его в совершенстве.
В своей черной сутане, великолепно скроенной, с перехватом в гибкой талии, аббат, учтиво сидя, наклонившись вперед, в каком-нибудь салоне, так и напоминал черную пантеру, спружинившуюся для сильного «броска». Миг, и последует прыжок. Но аббат оставался неподвижным, корректным, непроницаемым, иногда чуть-чуть улыбался… Вздрагивала линия красивых, четко обрисованных губ, вздрагивали усы, мягкие, пушистые, приятно пахнущие.
Дамы спрашивали:
– Монсеньор, – они называли его монсеньором, произведя сразу в кардиналы, – но ведь, кажется, католические священники усов не носят? Не принято?
– У нас принято, – снисходительно улыбаясь, точно объясняя детям какую-нибудь безделицу, отвечал Манега.
«У нас» это значило – в Австрии.
Высокий, стройный, в черной сутане, в черной шляпе и черных перчатках, с профилем ястреба, Манега всем своим обликом походил на зловещую птицу. Скошенный лоб, резкий нос с горбинкою, маленькие уши, плотно прижатые к черепу…
Зачем он приехал в Петербург?
Сам аббат ничего не говорил о цели своего появления. Говорили другие. Вернее, угадывали, потому что никто ничего не знал толком.
Приписывали ему какую-то секретную миссию. Его называли человеком, близким к ватиканским сферам. Утверждалось, что он – правая рука влиятельного князя церкви, кардинала Мерри-Дель-Валь.
Аббат Манега не разлучался с четками, янтарными, крупными. Такие четки носят мусульмане Ближнего Востока.
Аббат холеными белыми пальцами своими медленно перебирал нанизанные на шелковую нитку «зерна».
Он гулял по городу в сопровождении своей «тени». Этой внушительной тенью была громадная фигура албанца, шествовавшего в нескольких шагах за Манегою, Экзотическая фигура балканского варвара была такой чужой и чуждой – яркой, почти сказочной – под северным небом, средь шумной кипени Морской и Невского с их европейскою толпою и зеркальными витринами…
Горец диких албанских твердынь на макушке бритой головы своей носил маленькую белую войлочную шапочку. За широким матерчатым поясом торчали револьвер – громадный «кольт» и длинный кинжал. Короткая белая фустанелла (юбочка) пенилась густыми складками, точно газовый тюник танцовщицы. Длинные, белые шерстяные чулки с мягкими кожаными востроносыми туфлями дополняли внешность аббатовой «тени».
– Это он для рекламы привез с собой оперного албанца, – говорили относившиеся скептически к Манеге.
– Это романтично и в этом есть «кашэ», – говорили дамы, заинтригованные Манегою.
Сам он объяснял так:
– Я два года был миссионером в Албании, проповедуя слово Божие среди мусульман. Этот Керим – один из «обращенных». Он так привязался ко мне, возлюбленный духовный сын мой, что следует за мною повсюду. Он разочаровался в исламе, и теперь это добрый католик…
«Добрый католик» имел вид чрезвычайно свирепый, воинственный. Попытки заговаривать с возлюбленным духовным чадом Манеги ни к чему не приводили. Вращая белками в ответ, албанец нес какую-то невообразимую тарабарщину. Зато Манега объяснялся с ним совершенно просто. Вообще, аббат владел многими языками. Он производил впечатление воспитанного, с изысканными манерами человека. Это помогало ему в свете, и многие заветные двери охотно перед ним раскрывались.
Манега имел успех у дам. Определенный успех. Для женщины есть что-то пряное в католическом патере, в мужчине, который носит юбку. Такое же пряное, как в оперном певце, знаменитом художнике, укротителе, тореадоре.
Пользовался ли своим успехом аббат Алоис Манега? Держал он себя с удивительным тактом. Был так учтиво сдержан с теми дамами, что хотели подойти к нему ближе, – право, самая злая сплетня опускала в бессилии руки, невольно прикусив острый, ядовитый язычок.
Манега далек был от желания разыгрывать из себя обольстителя и донжуана в сутане, правда, сидевшей на нем, как хорошо пригнанный мундир кавалериста.
Именно в кавалерии Манега и начинал свою карьеру. Он не считал нужным скрывать, что в ранней своей молодости служил в девятом уланском эрцгерцога Сальватора полку. Но вскоре почувствовал всю суетность шумной светской жизни и решил посвятить себя церкви.
Двухлетняя миссия в диких балканских горах и дебрях, миссия тяжелая, суровая, опасная для жизни, – потому что какой же мусульманин-фанатик откажет себе в удовольствии пристрелить католического патера, – была для него искусом, который он выдержал с честью.
Слушая его, дамы восклицали:
– Подвижник!.. Аскет!
Это была особенная разновидность подвижника, холившего пальцы с твердыми розовыми ногтями, курившего ароматные сигары. От всей фигуры его исходило благоухание. Мягкие усы были хорошо знакомы с бинтами. Приподнимая сутану грациозным жестом, как шлейф, Манега показывал ноги в щегольских лакированных туфлях с бантами и в шелковых тонких, почти ажурных чулках.
Сплетня, казалось, окончательно приунывшая, воспрянула духом, подняв свою шипящую змеиную голову.
К весне имя аббата Манеги все чаще и чаще сплеталось в гостиных с именем княжны Варвары Дмитриевны Басакиной, имевшей заглазную кличку «синеокой Барб».
В самом деле, княжна была счастливой обладательницей больших синих глаз. Эти глаза с томной поволокой и немного влажной, немного темной окраской век так шли к ее слегка тяжеловатой русской красоте. По отцу княжна была настоящей княжною, хорошей древнетатарской породы. С материнской же – текла в ее жилах купеческая кровь. Покойный князь Дмитрий женитьбой на замоскворецких миллионах поправил свои по всем швам трещавшие дела.
От отца княжна Варвара наследовала тонко и тщательно очерченный нос с горбинкой, с нервными, трепещущими ноздрями. Руки – белые, узкие, с длинными пальцами, с ногтями-миндалинами – она тоже получила от отца. Все остальное: и рост, и волосы, пышные, густые, – все это было уже материнским благословением.
Отец и мать умерли почти вслед друг за другом, когда княжна была еще в Смольном. Единственная дочь, она вместе с громадным наследством получила неограниченную свободу. Она не спешила расстаться с нею, хотя женихов – и завидных женихов – сватался угол непочатый.
У себя на Фонтанке синеокая княжна Барб жила наездом, урывками, девять или десять месяцев в году скитаясь за границей. Ее видели в Судане с каким-то молодым англичанином атлетического сложения. Они путешествовали вдвоем, как супруги. Ездили на верблюдах, спали в пустыне, под звездами африканского неба, в шатрах. Сопровождал их целый отряд проводников-телохранителей из арабов.
Но в Петербурге жизнь синеокой Барб была, как говорят, без сучка без задоринки. Мало выезжала, еще меньше принимала у себя и, зная свою наклонность к полноте, придерживалась темных, гладких платьев.
Вот и сейчас, беседуя с глазу на глаз с аббатом в гостиной средь китайских ваз, старинных картин в потускневших рамах и светлой людовиковской мебели с золочеными ножками и подлокотниками, переходящими в головы грифов, княжна – в черном платье. Это скрадывает пышность форм, сообщая всей фигуре что-то монашеское.
В большие зеркальные окна струится погасающий майский день. И все так спокойно и мягко. Солнце загорается бликами на большой, стоящей у окна голубой вазе, обвитой страшным драконом, зажигает теплые, трепетные искорки на орнаментном золоте широких массивных рам с потемневшими холстами.
– Вы скоро уезжаете, аббат?
– Через две, самое позднее – три недели я должен быть в Риме.
– Должны?
– Меня зовут дела исключительной важности. Я и вам, княжна, советую поспешить… иначе…
– Иначе? – подхватила Барб.
Манега, спохватившись, закусил губы.
– Может что-нибудь случиться? – с тревогой спросила княжна.
Он улыбнулся. В оскале зубов, сверкающих, крупных, было что-то хищное. Скошенный лоб Манеги и плотно прижатые к черепу уши делали эту улыбку похожей на улыбку тигра.
Она вдруг погасла. Неподвижный и строгий, почти вдохновенный был Манега.
– Кто знает, как развернутся события? Никто не знает! Один только Бог. Но, во всяком случае, я советую спешить. И если вы, княжна, явитесь в Рим неделю спустя вслед за мною, вы скорее обрадуете его святейшество своим переходом на лоно католической церкви.
– Это было давно моей заветной мечтою… А теперь, благодаря вам…
Большие синие глаза смотрели на Манегу. В этом взгляде были и экстаз, и молитвенное обожание, и самая земная влюбленность к этому «кавалеристу» в черной траурной сутане.
Княжна вспыхнула румянцем. Вся горела. Затрепетали тонкие ноздри. Вздрагивая, поднимались и опускались темные веки. Тяжело дышать, как в душный день перед грозою.
Синеокая Барб стояла на коленях, ловила его руки. Аббат не отнимал их. Упала на ковер шпилька, другая. Распружинившись, волною, тяжелой и плотной, упали волосы…
Гибким кошачьим движением аббат схватил густую прядь этих волос и, скользя пальцами все выше и выше, стиснул их до боли у самого затылка и властно, со зверским выражением, притянул к себе голову княжны. На ресницах ее дрожали крупные слезы. Послушно приоткрылись губы. Другой рукой Манега взял белый полный подбородок и, надавливая ладонью горло, целовал княжну в губы, долго Целовал… Пока сам не оторвался. Княжна в каком-то истерическом забытье опустилась на ковер и, как Магдалина, закрыв волосами лицо, осталась неподвижной. И только чуть вздрагивали плечи.
Манега побледнел. Горели на щеках два алых пятна. И улыбнулся. Так улыбается, досыта полакомившись человечиной, тигр с окровавленной пастью и с капельками крови на седых «усах».
Манега вернулся к себе в «Семирамис»-отель, напоминающий мрачным фасадом своим гранитный замок.
Обеденное время. Сквозь стеклянные двери доносилиа тягучие, ноющие звуки румынских скрипок.
Международная толпа нарядным человеческим месивом наполняла обширный вестибюль.
Манега подошел к монументальному, «аршин проглотившему» блондину-портье, расшитому галунами. Аббата и человека с аккуратно подстриженной светлой бородкой в кепи с позументами разделял прилавок, покрытый стеклянной доской. Темные глаза Манеги встретились с холодными, светлыми глазами портье.
– Вы подниметесь ко мне, – тихо сказал по-немецки Алоис Манега.
– Слушаю, господин аббат, – так же тихо и так ж по-немецки ответил портье, брезгливо отмахиваясь от лепетавшего ему что-то мальчика в красной рубахе и в шапочке с павлиньим пером.
Манега занимал дорогой номер из двух комнат с ванной. Стук в дверь. Вошел портье.
Хозяин и гость обменялись рукопожатием.
– Я в вашем распоряжении, господин аббат.
– Садитесь, ротмистр Гарднер. Садитесь, курите, вот сигары. Нам есть о чем поговорить.
Адольф, главный портье «Семирамис»-отеля, опустился в кресло.
2. Солдаты великой армии
Откинувшись на спинку дивана, вытянув ноги в лакированных туфельках, играя тупыми по моде кончиками из аббат молвил:
– Итак, дорогой ротмистр, вы, – нас никто, надеюсь, в подслушивает? – вы со своим паспортом гражданина свободной Гельвеции будете как за каменной стеной. Можно сказать наперед, как бы ни сложилось общее положение Швейцария останется нейтральной. Что же касается меня, в то время, как вы здесь будете нужны более, чем когда бы то ни было, я возьму на себя Рим. Вечный город обещает самом недалеком будущем сделаться интереснейшим политическим центром.
– Господин аббат говорит с такой уверенностью, словно события уже назрели.
– Натурально, милый ротмистр, события назрели! И еще как! Днем я был в посольствах и здесь, на Морской, и на Сергиевской. Люди, что называется, сидят на чемоданах…
– Странно, – задумчиво произнес ротмистр Гарднер, поглаживая светлую бороду свою, – никаких предупреждений, все тихо, мирно…
– Перед грозою всегда и солнце светит, и душно, и овладевает сонливость, а потом вдруг все небо заволакивается тучами, сверкает молния, и… вы, надеюсь, понимаете, ротмистр, мое фигуральное сравнение?
– Понимаю, господин аббат. Я готов ко всему, я солдат моего императора и, что бы ни случилось, твердо буду стоять на своем посту. Сколько я вижу, слышу, сколько телеграмм проходит через мои руки! Здесь в этих галунах портье в вестибюле «Семирамиса» я принесу гораздо больше пользы своему отечеству, чем если бы командовал эскадроном и даже целым полком, при этом оказывая славные, доблестные подвиги. Я к вашим услугам, господин аббат, что вы хотели мне сказать?
– У вас хорошая память?
– Я вдвойне обладаю «профессиональной памятью». Вы могли убедиться.
– Отлично! По крайней мере, не надо записывать. Запись должна быть под черепом, – это самое надежное. Итак, во-первых, добудьте эту каналью Дегеррарди… Я приказываю немедленно же явиться ко мне. Два дня пропадает. Забулдыга, пьяница, бабник, но отличный агент, силен, каторжная совесть и невероятный наглец. Незаменим на маленькие дела. Я его немедленно командирую в Сербию. Там, в Белграде, он поступит в распоряжение милейшего полковника Августа Кнора, щеголяющего такой же самой униформой, как и почтенный коллега его – ротмистр Гарднер. Затем дальше, вы имеете понятия о некоей мадам Карнац, директрисе, или просто содержательнице «института красоты»?
– Слышал. Где-то на Конюшенной?
– Наведите о мадам Карнац самые точные справки, – предложил аббат Гарднеру. – Она может быть нам очень полезна. Я не думаю, чтобы она являла собою закованную в броню добродетель. Содержательница института красоты это – что-то близкое содержательнице «института без Древних языков». В лучшем случае – отставная содержанка, в худшем – особа с весьма и весьма темным прошлым. Повторяю, эта особа необходима. У нее реставрируют свою увядающую молодость многие светские дамы, жены людей с видным положением. Кстати, узнайте, бывает ли там госпожа Лихолетьева? Затем у этой Карнац имеется сожитель, субъект с внешностью типичного фокусника. Говорят, определенно уголовная фигура. Но своим ремеслом он защищен, как еж иглами или черепаха роговым панцирем. Этот шарлатан позирует на маленького современного Калиостро. Он возвращает пожилым и старым дамам не только вторую или третью, но даже первую молодость. Где-то за границей он постиг следующий секрет: препарируют кролика, берут какую-то пленку и свежую, теплую, влажную от крови натягивают, на дряблое морщинистое лицо. Как это делается технически, я не знаю, но, словом, в результате кожа лица обновляется, как у девушки. Этой кроличьей пленки хватает на месяц. Затем – следующая операция в таком же роде.
В холодных, светлых глазах ротмистра Гарднера отразилось удивление.
– В первый раз слышу! Но это колоссально, господин аббат! Пирамидально. Однако неужели это правда?
– Правда! – скрепил Манега. – Этот шарлатан в большом фаворе у тех вельможных старушенций, которым он возвращает их первую молодость. Вы понимаете, такая интимность, такая постоянная зависимость от искусных пальцев господина с внешностью фокусника, – все это располагает к излишней откровенности. Человек ловкий, – а в ловкости этого проходимца я не сомневаюсь, – сумеет всегда выудить то, чего мы пожелаем. Войдите с этой достойной парочкой в соглашение. Заинтересуйте их материально. Вы доставите мне на самых ближайших днях точный список всех дам, пользующихся услугами «института красоты». Я знаю тем более, что там обделываются делишки, ничего общего с наведением красоты не имеющие, включительно до сводничества. Я не пожалею денег, пообещайте аванс. Если они пойдут навстречу нам, в чем я ни сколько не сомневаюсь, я выпишу предварительный чек на пару тысяч. Дальнейшая плата будет зависеть от их работы. «Институт» я поручаю всецело вам. Жду список и очень хотелось бы увидеть в нем имя Лихолетьевой.
– Есть, господин аббат! Все будет сделано, – коротко по-военному, дернул вниз головой ротмистр Гарднер. – Имеете еще что-нибудь приказать?
– Мой милый ротмистр, я ничего не приказываю, я советую, направляю, обращаю ваше внимание. Мы с вами солдаты великой армии германизма, и каждый из нас служит ей по-своему. Вы, вторым окончивший академию генерального штаба, служите в этой ливрее, ваш покорный слуга – в сутане аббата. А сколько еще переодеваний, маскарадов, которым позавидовал бы любой сыщик или трансформатор? Но я не задержу вас, вы сидите как на иголках, да и вправду, ваше отсутствие могут заметить. Как это странно: здесь вы со мной близкий, свой, без маски, а там, внизу – сотни болванов, ничего не подозревающих, распекают вас, тычут свои карточки, серебряную мелочь, требуют корреспонденцию. А ведь набегает, сознайтесь, помимо двойного жалованья, – из посольства и генерального штаба? Сколько еще наберется чаевых?
– В месяц рублей около трехсот, – произнес эту цифру с видимым удовольствием ротмистр Гарднер.
– Ну, вот, не буду вас задерживать. Последняя моя просьба, – дайте телефонный звонок Шацкому и барону Шене фон Шенгауз. Впрочем, нет, не надо… Этот барон с девичьей мордочкой сам забежит ко мне попозже. Столько дел, голова идет кругом, того и гляди все перепутаешь!
– А между тем память у господина аббата колоссальная, я убеждался в этом неоднократно. Помнить все, не записывая, так помнить! В особенности, принимая во внимание тот рассеянный светский образ жизни, который ведет здесь господин аббат…
– Ах, как все это надоело, Гарднер!.. Эти завтраки, обеды, вечера, ужины. Но в интересах дела необходимо везде бывать, все слышать и все видеть. На меня зовут гостей, как на заезжего шпагоглотателя. Пусть! Я смеюсь в душе. Но зато какой драгоценный материал собираю этак походя, случайно, как говорится, кончиком уха. Из этих цветных камешков составляется великолепная сложная мозаика.
Портье Адольф, швейцарский гражданин, оставил не без сожаления в пепельнице добрую половину ароматной сигары. Но не дымить же ею на весь коридор и в вестибюле! Портье должен знать свое место…
Гарднер вытянулся, щелкнул каблуками.
– Имею честь кланяться, господин аббат!
Он уже двинулся к дверям, но, вспомнив что-то, вынул из бокового кармана «униформы» несколько визитных карточек.
– Совсем забыл! Нес господину аббату сегодняшних визитеров и чуть не забыл. На редкость блестящие визитеры – графы, князья, камергеры и даже один министр.
Аббат, небрежно читая на карточках звучно-внушительные имена визитеров, отбрасывал их. Но вот наименее громкое из них, – стояло всего-навсего Михаил Григорьевич Айзенштадт, – привлекло его внимание. Он усмехнулся язвительно в свои надушенные кавалерийские усы. Задержал в пальцах карточку.
– Айзенштадт! Вы знаете этого гуся?
– Еще бы, господин аббат! Одни называют его крупным мошенником, другие – не менее крупным финансистом.
– Я думаю, он – то и другое в одинаковой степени. Но, во всяком случае, этот Айзенштадт жонглирует миллионами. Дней десять назад он устраивал в мою честь обед. После обеда, тонкого, с обилием хороших вин, с лакеями в гетрах и аксельбантах, – сам он, впрочем, был и остался «мовешкой», засовывая в глотку чуть ли не половину ножа и без умолку болтая с набитым пищею ртом, – он увел меня, вернее, утащил в свой кабинет и атаковал с места, прижав к письменному столу своим животом и обдавая не совсем приятным дыханием.
– Монсеньор, – они все здесь произвели меня в кардинала, – монсеньор, вы можете мне устроить, я знаю, что вы можете, титул папского графа? Графа двора его святейшества? Я мог бы внести на благотворительные дела Ватикана довольно крупную сумму.
– Что вы называете крупной суммой?
– Ну, триста тысяч рублей… рублей, не франков!
– Это уже солидный фундамент для монумента будущему графу двора его святейшества… Но какую вы исповедуете религию? – продолжал свой рассказ аббат.
– Православную.
– Православную? Это гораздо хуже! Его святейшество жалует милостями своими исключительно католиков.
Мой Айзенштадт сделал кислую гримасу и в досаде начал рвать ногти.
– Ах, монсеньор, как вы меня огорчили, как вы меня огорчили! Но не могу же я принимать католичество?!.
– Почему? В России объявлена свобода вероисповеданий.
– А я все-таки не могу. Во-первых, неудобно. Моя звезда разгорается. Меня уже знают в сферах. А затем… затем, я уже был католиком.
– Тем логичнее вернуться опять на лоно вашей первоначальной церкви.
– Увы, монсеньор, это не моя первоначальная религия. Я до католика был лютеранином. Не думайте, пожалуйста, что действовал из корысти. Я ломал свои убеждения с болью… Но неужели так-таки никакой надежды? А если я округлю пожертвование до полумиллиона? Лишних двести тысяч за право остаться тем, что я есть! И наконец, если нельзя получить графа, то нельзя ли маркиза или даже барона? Я помирился бы на худой конец на бароне.
– Трудно, господин Айзенштадт. Постараюсь, но ничего не обещаю. Трудно!.. Больше шансов получить звание камергера двора его святейшества.
– Хорошо! Давайте мне камергера. Давайте! – вцепился обеими руками в мою сутану маленький, взъерошенный финансист. Я думаю, у этого человека никогда нет времени привести в порядок свои волосы.
Я соображал, он же меня теребил, не давая покоя.
– А ваш мундир камергерский красив? Много золота? Много красного? Есть ключи? Главное, ключи!
Я успокоил его обилием золота, красного цвета и двумя ключами.
Он выписал чековую книжку.
– Аванс, монсеньор, получите аванс. Половина вперед. Он выписал чек на двести пятьдесят тысяч. Я думаю, что мне удастся одеть эту нелепую фигуру в камергерский мундир. Надо будет только изобрести особые заслуги по отношению к святейшему престолу. Хотя… хотя без малого полтора миллиона франков, увеличивших казну Ватикана, – это уже сама по себе заслуга!.. До свидания, ротмистр, отьшщте этого беспутного Дегеррарди.
Оставшись один, аббат, довольный итогами дня и в особенности «обращением» княжны Басакиной, обращением, на которое возлагал большие надежды, вытянулся с торжествующей улыбкой всем гибким и упругим телом, напоминая резвящегося хищника. И хищно скрючились в воздухе пальцы, словно хватая кого-то невидимого за горло.
Затем, позвонив лакею и потребовав обед к себе в номер, Манега сел писать деловое письмо. Завтра курьер австро-венгерского посольства едет в Вену. Вместе с дипломатической корреспонденцией он захватит и письмо аббата, письмо, которое ни в коем случае нельзя доверить почте.
Аббат успел пообедать, успел кончить и запечатать письмо. Успел выкурить сигару.
Кто-то стукнул в дверь дважды концом трости.
– Войдите, барон, – ответил, не глядя, Манега.
Барон Шене фон Шенгауз оказался молодым, бритым щеголем в лакированных ботинках с песочными гетрами и в монокле. Женоподобный, приторно улыбающийся, пахнущий чем-то пряным, слегка припудренный, он приблизился к аббату вихляющей, кокетливой походкой. И сначала поцеловал протянутую руку, а потом они поцеловались в губы.
3. «Институт красоты»
Мадам Альфонсин Карнац терпеть не могла шумные, кричащие вывески.
– Фи, это дурной тон! Вывеска привлекает внимание тех, кому она вовсе не интересна и, наоборот, может отпугнуть именно тех, кто нуждается в чудодейственной помощи мадам Карнац, в ее лаборатории красоты и вечной молодости.
Многих дам тянет на Конюшенную, в этот подъезд с черной стеклянной табличкой, на которой выведено белой эмалью: «Институт красоты».
Многих… Но в этих посещениях привкус чего-то, даже не объяснишь толком – чего, но, во всяком случае, чего-то немножко запретного, немножко стыдного.
И хотя дамы общества знают друг про друга, что каждая из них бывает у мадам Карнац, но при себе лично даже самые близкие приятельницы, делившие одних и тех же любовников, даже они боялись проговориться.
Самое больное место женщины – ее внешность. И конечно, прежде всего хочется: пусть думают все, что она хороша и свежа от Господа Бога, а не от ухищрений мадам Альфонсин и целого парфюмерного магазина косметиков!