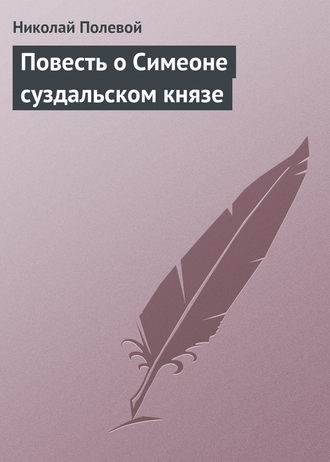
Николай Полевой
Повесть о Симеоне суздальском князе
В веселом разгулье прошло две, три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псальмы; в другом заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная, темная ночь облегла город и окрестности и в домах погасли последние огоньки. Все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать; иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояре, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.
И теперь еще найдутся в собраниях старинных чарок русские чарки-свистуны. У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели положить своих гостей – верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наша бывали замысловатее нас на угощение.
Такого-то свистуна огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было споить, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза три-четыре, и когда уже петухи возвещали час полуночи.
– Чокнемся, боярин! – вскричал Замятня, протягивая другого свистуна, – чокнемся и обнимемся еще раз!
«Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет двоиться в глазах», – отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться: не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке?
– Э! была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом!
«Давай! Если за нами череда, чего мешкать!»
Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.
– Подавай кругом! – вскричал Замятня.
Кравчий повиновался.
– Эх! ты, боярин! Вот уж люблю тебя за то, что молодец – и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня – гуляка, пустая башка! Врут; дураки: я в тебя, боярин, – вот что ни смотрю, точно братья родные…
«Ты диво малый! – вскричал Белевут, обнимая Замятию, – точный москвич, а не нижегородец!»
– Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невзлюбил! Ведь я был все тот же?
«Нет, не тот же, а теперь – чудо, не человек… прежде ты глядел не так – немножко кривил голову… Ха, ха, ха!»
– А ты ее повернул мне куда следует?
«Сама повернулась!»
– То-то же, сама. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот, посмотри-ка: здесь кого-то недостает…
«Кого? – сказал Белевут, смеясь. – Ведь не тринадцать их осталось – чего бояться, если кто и уплелся!»
– Надо знать кто! Вот, примером, сказать: Некомат где? Вот там сидел он и морщился!
«Так не лежит ли он где-нибудь…»
– Нет! думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он человек, чтобы свалился. О, не люблю я этаких народов…
«Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно любится что-то? Я спас его от погибели: он не то что ты; у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!»
– А он спустил тебя на посулах?
«Не то, не такого олуха царя небесного нашел он, да что-то не ладится у меня с ним никак – чловно козьи рога, в мех не идет».
– Скоро ли у вас свадьба?
«Скоро ли свадьба? Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться – ведь богат, как немногие бояре московские…»
– Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат, но, право, я что-то куда как, сомневаюсь… Вот я – был, грех… стоял – за Симеона (тихонько прибавил Замятня), а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кащей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!
«Я знаю», – сказал Белевут, коварно улыбаясь.
– Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, моей любимой стопе, что вон там стоит на полке?
«Полно шутить, Замятня – теперь уже все старое кончено…»
– Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет – а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить… Что ты думаешь: все уж молодцы у вас в руках?
«Все. Хочешь покажу тебе роспись, кто и где теперь?»
– Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал, да что ни лучшего-то, того-то у вас и нет… Где боярин Симеонов Димитрий?
«Где? У беса в когтях! Только его одного и недостает».
– Этак он ошутил: только его! Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?
«Ну, где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!»
– Его нигде не сыскали?
«Уж все мышьи норки перерыли!»
– А Некомат тянет ваше сватовство?!
«Ну, что же?»
– Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
Во ту ли реку, во Смородину… —
так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.
«Что ж ты хотел сказать?» – спросил нетерпеливо Белевут.
– Постой, боярин! Пусть они распоются погромче – я нарочно затянул, чтобы нас не слыхали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовой, стучит, воет, кричит в полночь?
«Бабьи сказки!»
– Мужские сплетни, скажи лучше, я… хм! – я видел домового!..
«Ты?»
– Да, я. Ну, как ты думаешь: каков собой этот домовой дедушка? Кто он? Черт, что ли? – Замятня плюнул.
«Говори, говори!» – вскричал Белевут. Глаза его засверкали.
– Постой – дай одуматься – все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть: что там за чудеса такие творятся и правда ли это – и вот и пошел я подкараулить – вот и идет Некомат, идет дочь его – и домовой идет… Месяц светил ярко… Провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где… Симеон!
«Если ты лжешь, Замятня…» – вскричал Белевут и взялся за саблю.
– Вот: лжешь! Послушай: теперь полночь… Ну, хочешь ли, пойдем потихоньку – нас не заметят! Авось мы встретим домового!
Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех сменялись на лице Белевута.
– У тебя сабля, а я с голыми руками! – сказал Замятня. – На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!
«Нет, не верю… не верю… Пойдем!»
* * *
Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу, в переулок, и ни одна душа человеческая не встретилась им. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к задам Некоматова двора. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некоматова, идут тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются – идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья – человек с фонарем подходит – это Некомат. Он идет озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается. «Господи! помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил… Он, верно, в заговоре, проклятый пьяница… Если узнали! Горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.
– Что, боярин?
«Ничего, – отвечал Белевут, – улыбаясь принужденно. – Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?»
– Пойдем далее, а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?
Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня в чаще вишневых дерев.
Низкое строение стояло уединенно и было покрыто дерном. Одно только окошечко было в нем вровень с землею. Огонек светил из окошечка.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази его!» – заговорил Белевут, крестясь.
– Вот и струсил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе!
Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку – ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде – свет падает ему в лицо – Замятня, не ошибся: он, Димитрий, боярин Симеона!
Как бешеный, вскочил Белевут. Замятня удерживает его – напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас. Дверь растворяется. Димитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную…
«Она умерла! Она умерла! Господи Боже мой!» – говорит он отчаянным голосом.
– Сюда, помоги! – кричал Замятня, зажимая рот, Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий оставляет Ксению на земле, Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.
– Пусть кричит себе там, сколько хочет! – сказал Замятня, оправляя платье. – Димитрий! Брат! Друг!
Они крепко обнялись.
– Доволен ли ты мною? – спросил Замятня.
«Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе…»
– Что: дурак я аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей недостает отмолить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на свою душу – и как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!
«Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей, да он и не стоит того… Награда твоя не здесь!..»
– Да и чем наградили бы меня здесь за все, что я делал для правого дела? Деньгами? Я бросал их горстями за окошко! Почестями? Какие почести тому, кто о жизни своей думает столько же, сколько об изношенной шапке! Димитрий! дай Бог тебе час добрый! Ступай прямо к Симеону – там все уже готово, а я побегу к гостям моим – у меня все собраны, и я никого не выпущу до света…
«Замятня! увидимся ли мы еще в здешнем свете?»
– Бог знает, друг Димитрий… Ну! все равно – прощай!
«Прощай!..»
Еще раз крепко обнялись они, и Димитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Димитрий был точно как окаменелый. Он отшатнулся от Замятни и как будто тогда только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней; взял ее холодную руку.
«Умерла? – сказал он. – Прости! И я ведь не жилец на земле! Тебе не радостна была жизнь – я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было?.. Но, нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива! Ради Бога, пособи мне…»
– Чем же, брат? – отвечал Замятня, сложа руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Димитрия, который, стоя на коленях, сжимал в руках ее руки, – Если Бог даст Симеону возвратиться с честью и на счастье, будете еще жить и довольны, и веселы…
«Димитрий, супруг мой, милый друг! – вскричала Ксения, тихо поднявшись с земли и охватив Димитрия обеими руками. – Ты идешь? Надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?»
– Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда! Иди домой – успокойся…
«Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы мои и не видать тебя…»
– Димитрий! Время дорого! – сказал Замятня.
«Иду! Еще на часок…»
– Вспомни, что от тебя зависит участь Симеона.
«Да, да… Мог ли я забыть», – и он исчез.
Тут крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем. Замятня остановился на минуту и слушал. Все умолкло. Холодный ветер шевелил листья дерев. Невольный какой-то трепет объял его, и он спешил идти.
Быстро пробежал Димитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить – ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни! Тайный брак соединил их во время поездки Некомата в Москву. Золото обольстило няню Ксении. В зимнюю ночь, когда все спали в доме, Димитрий, увез Ксению. Они были обвенчаны в отдаленной церкви. Счастье не было их уделом. Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.
* * *
Темница, где заключен был Симеон, стояла подле Кремля. То был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал тюрьму. Стража стояла подле ворот и вокруг дома. Двое московских бояр жили в самом доме. Рядом с сим домом был сад Некомата и небольшой старый домик его. Димитрий быстро прибежал к воротам темничного двора. Несколько человек показались из-за углов: то были его сообщники. У ворот не было ни души – стукнули в ворота; изнутри отодвинули засовы. Все вошли в маленькую калитку. Димитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Димитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, а темничный пристав, не участвовавший в заговоре, спит в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставень окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из ратников откликнулся; раздалось еще несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях. Они уступили усилиям. Дверные запоры упали. Двери растворились. Вдруг померещилось Димитрию, что по улице вдоль забора от ворот кто-то крадется… Холодный пот выступил на лице его… Боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь. Он один – весь обращен в слух – тихо – опять шорох… Так! Кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий… Всемогущий! если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрыпит замок от напряжения лома… Димитрий прячется – таит дыхание. Кто-то подходит ближе – вынимает из-под полы маленький фонарь – светит. Мерцающий свет отражается на лице незнакомца – Димитрий узнает Некомата…
«Недаром чуяло у меня сердце! – шепчет старик, – здесь не добро! Мое все цело, а здесь… Посмотрим… калитка отворена – сторожей нет… Как? И дверь разломана!.. И здесь нет стражи! Измена! Ударим в набат!» Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче… О ужас! Димитрий не заметил сначала новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей его каморки протянута веревочка, проведенная на набатную Кремлевскую башню. Уже Некомат подле нее – одно движение рукой – и вся кремлевская стража пробудится…
Дыхание сперлось в груди Димитрия. В глазах у него потемнело. Кровь его застыла и опять, как огонь, полилась по жилам. Он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата – фонарь тухнет… началась борьба отчаяния…
Старик был довольно силен. Он выбивается и бросается снова к веревке. Димитрий опять нападает на него. Рука Некомата ловит – почти хватает веревку – все заключено в одном взмахе руки – старик хочет кричать – нож выпадает у него из-за пазухи, и, как безумный, он ищет его в темноте, схватывает его и поражает Димитрия. Димитрий чувствует, как теплая кровь течет по руке его – он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату – крик – новое усилие – еще удушаемый крик, еще усилие – последнее, отчаянное – и за ним послышалось хрипение уминающего…
– Убийца! – вскричал Димитрий. Голос его глухо раздался во мраке. – Я убил его! – И ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали. Но вот идут из тюрьмы – слышны голоса. В забытьи оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим – Симеон!..
* * *
«О! стонать тебе, Русская земля[36], помянувши прежнюю годину и прежних князей, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго! Ныне усобица князей на поганые погибла. Рекли князья: то мое и то мое же, и сами на себя стали крамолу ковать, а поганые со всех сторон с победою приходят на землю Русскую. Тоска разлилась по земле Русской, и печаль тучная бродит по весям и градам! О! стонать тебе, Русская земля, помянувши первую годину и первых князей!» – Так пел ты, певец плена Игорева, и два века протекли, но вещие слова твои роковым пророчеством носятся по земле Русской!
Что там расстилается, как туман на синем море? То стелется дым от огня, попаляющего жилища православных! Что там белеет, как снега во чистом поле? То белеют шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь – Тимур перешел Волгу и двинулся на полночь по берегу Дона. Пустынями шло его воинство, не встречая ни града, ни веси, ни села. Если и были там древле грады красны и нарочиты видением, места их единые только оставались, пусто же все и ненаселенно, нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество. При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.
Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену? Кто сей русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Он, седой вождь татарский, был в Нижнем Новегороде и безмолвно смотрел, как сорвали венец княжеский с главы князя Бориса и как бросили в темницу Симеона.
– Наконец и ты здесь, русский князь. Поедем же в ставку великого Тимура! – говорил татарин.
«Поедем!» – отвечал князь русский.
– Дружина твоя останется у моих шатров.
«Пусть останется».
– Ты должен оставить здесь все свое оружие.
Русский князь безмолвно снял саблю, отстегнув кинжал, положил копье. Подводят коней. Они едут.
Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на несколько верст по берегу Сосны и Дона и неправильно простиралось в лес. Передовые отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Взъехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, и меловые горы, при впадении сей реки в Дон, русский князь невольно остановился, и тяжкая печаль изобразилась на лице его.
Перед глазами князя раскрылся стан Тимура – ни в которую сторону не видно было конца бесчисленному множеству шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стада коней, волов, верблюдов, овец; орудия, каких до того времени не видано в России; воины, разнообразно одетые, богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские; женщины и дети пленные; телеги, нагруженные снарядами и добычами; оружие, наваленное кучами и расставленное рядами; огни, вокруг которых сидели воины; балаганы, где раскладены были богатства и товары из всех стран света и где шла деятельная торговля, как будто на каком торжище; рев животных; звук бубнов и труб, клики, песни, плач, игры, уныние отчаяния и неистовство счастия, бешеная радость и вопль ярости – все раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.
На самом высоком месте, среди табора, стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная алмазами маковица. Полы шатра, из драгоценных индийских тканей, были опущены. Вокруг шатра постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Тройная цепь стражей, скрестивши копья, спрашивала всех подходящих. При ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи, и тянулись в обе стороны богатые шатры жен и вельмож Тимуровых. Бессмертная дружина Тимурова окружала его ставку. Совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и сопутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи, и на бархатных подушках сидели писцы и муллы; одни писали на шелковых тканях, другие погружены были в чтение свитков; в стороне сидел какой-то человек с свертком в руке, молча, но, выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Другой человек с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то странного вида математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин и русский князь балдакиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колени. Глубокое молчание. Украдкой поднявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра. Вокруг набросаны были дорогие ткани, стояли деревянные кадки и горшки с жемчугом, золотом, серебром; в груде лежало множество золотых чаш; в стороне брошен был овчинный тулуп; шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей. Вокруг стен положены были подушки, бархатные и парчовые, и подле каждой из них, на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, преклонив головы. Только один старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную[37], сидели несколько ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин, глиняный, на огромном золотом подносе, и подле него лежали два черные невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на подушке из драгоценного балдакина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках. Он прихлебывал что-то из чаши и слушал чтение свитка – то было утреннее чтение алкорана.
«Он дал свет солнцу и блеск звездам. Он уставил изменения месяца, да послужат человеку делить время и считать лета. Воистину он создал всю вселенную. Он повсюду явил очам мудрых знамения своего могущества. Последование ночи и дня, согласие всех творений на земле и на небе суть блистательные свидетельства боящимся Господа. Не ожидающий будущей жизни, обольщенный прелестями земного бытия, уснет на них ненадежно, а презирающий мои вещания, за деяния свои, получит возмездием огнь адский!»
Здесь Тимур махнул рукой. Чтение прекратилось. Все поднялись и сели на подушках около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел человека, которому, по-видимому, было не более 50 лет – таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и кинжал за поясом – ничто не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура. Глаза его сверкали, как глаза тигра. Лицо его не выражало ни одной страсти, но оно было смешением всех страстей. Ничего не высказывало отдельно лицо Тимура, но каждое движение резких черт его обнажало пучину страстей, подобную той пучине моря-океана, где, как говорят, неугасающая смола горит, и кипит, и застывает – плавит камни и леденит воду в одно время.
«Вот истинная премудрость, Джеладдин-Абу Гиафар! – сказал Тимур, указав на алкоран жилистою рукою, показывавшею его необыкновенную силу. – Вот где язык человека должен замкнуться в храмину безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в двери небесной мудрости? Что мы? Муравьи, тлен! Век наш – тень былия на горе Ливана!»
Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему: «Разве я сказал что-нибудь достопамятное? – промолвил он. – Правду, простую правду сказал я!»
– Правду небесную! – отвечал писец.
«На что же записывать ее? Она в сердце твоем и моем, и всех людей. Люди все одинаковы».
– Нет! – откликнулся кто-то у входа шатра. Это был тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел сумасшедшим за его кривлянье.
«Тебе могу поверить, – сказал тихо Тимур. – Бог рек! „Мы даровали премудрость Локману[38] и вещали ему! даждь славу Богу!“ Ты поэт, вдохновленный небом, – говори!»
И поэт проговорил быстро:
«Если все древа земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес Бога, создавшего Тимура, саиб керема вселенной[39]. В едином человеке воссоздал Бог все человечество. Он изрек: кун (да будет!) – и явился человек. Он изрек: желаледдин (восстань!) – и восстал Тимур! Цари – рабы его; веяние крыл ангела смерти – гнев его; от взоров его колеблются столпы Византии и трепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю: на одной половине престол его, на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о скалы ужада враги его! Древо блаженства смертных выросль в груди его и распростерло сени святых законов от полудня до полуночи! Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекая пучину времен, она пройдет века и воссияет над гробницею последнего смертного!»
– Благословен Алла, создавший Тимура! – воскликнули присутствовавшие.
«Абу-Халеб! Возьми себе вот этот горшок, – сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный вровень с краями золотом, – и помни, что Тимур прервал сон наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага[40] шатра своего. Говори мне, Эйтяк[41], – сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем, – говори: тот ли это человек, который просит помощи? Что ему надобно? Не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка, восстановить повсюду закон и правду?»
– Нет, великий сагеб керем! Он князь в полунощной части земли Русь.
«В сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?»
– Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.
«Так угодно было судьбам вышнего! Зачем же противится он воле Бога? Зачем не отдаст он венца за мирную соху, при которой счастлив бывает человек? Что ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?»
– Землица была его наследие. Он почитает обязанностью хранить ее, ибо в ней схоронен прах его предков.
«Не Москва ли была наследие его? Я слыхал о каком-то городе Москве?»
– Нет! Москва отняла у него наследие.
«Итак, даже Москва могла обидеть его, Москва, которая сама преклонялась у подножия седалища людей, ничтожных пред избранными пророком – преклонялась пред ордою Тохтамыша!»
Он умолк и потом обратился к одному из присутствовавших.
«Где посол Баязета[42]?» – спросил он.
– С восхождения солнца вчерашнего ждет он ответа, не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ твоего шатра.
«Кто он?»
– Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетой, и ныне раб его.
«Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит погибель его на скале гордости и что корабль его плывет через пучины безумия. Напиши, что воины мои покрывают полмира и что скоро приду я в Анатолийские леса[43] и там Богу правосудия предам мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, если Москва обидела тебя – поди с моим именем, поди один и пешком, в Москву – поди и скажи князю Московскому, что я отдал тебе Москву, и – возьми ее себе».
– Он не посмеет взять не своего, – отвечал угрюмо Эйтяк.
«Эта Русь мне нравится, – сказал Тимур, улыбаясь. – Здесь, мне кажется, были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса – они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в дикой, вырубленной моими воинами дебри. Тут был лес – он был уже некогда вырублен – жили люди, и их нет – и на городах их выросли вновь леса. Люди здесь, на Руси, сжались в маленьких городках – и так же называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землицу! Для чего желаешь ты, князь русский, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько! (Тимур показал меру могилы). Сегодня ты гордишься, а завтра никто и не вспомнит тебя! Стоит ли труда земля твоя и век твой? Я был на том месте, где стоял Вавилон Великий, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись пред мною длинными рядами обломков. А знаешь ли, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать? Что ты скажешь об этом, Мостассем-Гассан, мудрец Багдада?»
– Раб твой, – отвечал один из присутствовавших, – осмеливается думать, что воля Провидения неисповедима; оно создало кедр Ливана, розу Исмена, и траву, растущую на могиле монгола, умершего в сибирской степи, где никто не ведает не только его самого, но и народа его, погребенного в ветре пустынном. Я видел водопады великого Нила: там волны реки падают с того самого часа, как Бог изрек миру: будь! и он был. Волна сменяет волну, и все льется в море, где и глаз и ум человека теряются в необозримой пучине.
Глаза Тимура блеснули, как молния.
«Взгляни на звезды небесные, – сказал он, – и знай, что есть и в мире такие звезды! Пыль подъемлется ветром и падает опять на землю, а глаза Алиевы вечны, и бог избирает здесь на земле человека тленного и дает ему нетленные глаза! Собирается воинство и идет на край света. Для чего движутся сонмы их, для чего клики их будят духа безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба, купленного за одну копейку, насытит человека. И что я? Бедный грешник, старый и хромой – но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать губительному ветру истребления силы великие и царства многие! Дух Божий ведет меня – и будто я знаю, куда он ведет меня? Он теперь отвращает меня от пути на полночь – он велит мне идти туда, в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем чрез те горы, где сказал какой-то бессильный богатырь: не далее! Придем сюда еще раз, но уже с запада, и через Железные Врата Каспия[44] пронесем завет пророка в Самарканду! А, Мустафа! исполнил ли ты повеленное тебе?»







