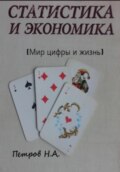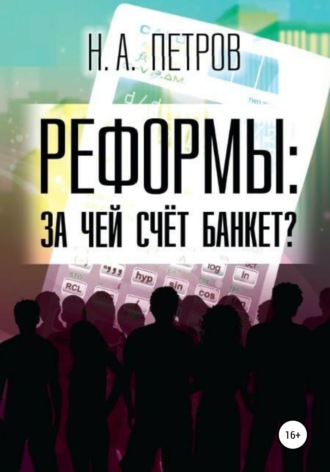
Николай Александрович Петров
РЕФОРМЫ: за чей счёт банкет?
Низкий курс рубля отвечает интересам экспортеров, и прежде всего топлива. Но вместе с тем снижающийся курс рубля не дает розничному продавцу с той же легкостью реализовывать импортные товары, как было при высоком курсе национальной валюты. Если предполагать гипотетически, что дешевый импорт станет конкурировать между собой (что маловероятно, поскольку цены на импортные товары устанавливают не условно многочисленные поставщики оттуда, а незначительное число доморощенных «купцов» здесь, часто нероссийского происхождения), значит, быть наивным до глупости. Тем более, что внутрироссийская политика хорошо подготовила им почву для получения сверхдоходов: цены на исходное сырьё (например, топливо) выше, чем на мировом рынке. При необходимости (в случае возникновения конкурента) всегда можно цены обрушить вдвое, чтобы конкурента разорить. По этой причине начинать производство в России без наведения порядка в ценообразовании, без поддержки государства, дело очень рискованное. Высокие цены в России обусловлены: а) высокими ценами на исходное отечественное сырьё, включая топливо; б) мелкотоварным производством с высоким уровнем непроизводительных затрат; и в) высокими налогами. Сегодня у нас любое материальное производство характеризуется преимущественным ростом долгов, опережающим рост доходов, ростом цен на продукцию и сокращением объёмов производства вместо сокращения непроизводительных затрат (коммерческих и управляющих расходов). Поэтому возрождение производства в стране (разве это рынок?) возможно только при двух условиях: если будут обеспечены предпосылки для массового производства (для этого государство должно помочь завоевать рынок в собственной стране путем трансформации «обменной лавки», какой стала у нас «рыночная» экономика, в государственный капитализм), и сбалансированные средние издержки. Как их можно сбалансировать с импортом? Путём выявления сверхдоходов между таможенной стоимостью импорта и стоимостью при продаже конечному потребителю и налогообложением по повышенной ставке сверхдоходов, полученных от продажи такого товара. Вот только этим государство заниматься не хочет и не будет, т.к. сориентировано на импорт вместо производства. Правящий класс, черпающий ложной из котла, изолированного от национальной кухни, – это сегодня и есть «FC», т.е. сплошные накладные расходы, которые себя сокращать не будут. Чтобы сбалансировать средние издержки с импортом, «FC» должно стремиться к минимуму, а знаменатель (рабочие, станки и товарная масса) расти. Ускорить этот процесс государство может путем установления импортных пошлин или квот, которые успешно использует Запад, защищаясь от желающих попасть на их рынок. Возвращаясь к забытым теориям, можно сказать, что реформаторы России подтвердили теорию Маркса: деньги, минуя производственные отношения, порождают только деньги, но не богатство государства. И никогда, сколько бы их ни было, эти деньги не потекут по собственной воле в производство с более низкой рентабельностью, чем на спекуляциях ценными бумагами и недвижимостью. Экономика России с начала 90-х годов находится под санкциями собственного Правительства и в этом её проблема. Денежная масса на российском рынке растет (хотя в реальном секторе её не хватает) обратнопропорционально реальному физическому промышленному производству. Пример тому (повторюсь) – парк установленных станков России (данные представлены в статье «Доля государства и Судьба человека») и падение физ.объёма производства (в статье про «Монетаризм»).
Мне представляется необязательным доказывать, что 4 станка производят больше, чем 1 станок, тем более что в 90-е годы списывались в металлолом в первую очередь станки с ЧПУ. При этом станки, которые списывались в России, активно использовались в Китае. В настоящее время доля современных станков с ЧПУ как будто не превышает долю, которую они имели на заре реформ, однако, закупки по импорту не удовлетворяют потребности экономики: есть рост, но отдача от них (производительность) продолжает падать:

Правительство, которое с одной стороны деньги рассматривает, как «определяющий фактор развития экономики» и, значит, чем больше денег – тем выше темпы, с другой стороны беспокоится, что много денег в обращении (хотя процент к ВВП ниже, чем в Китае) грозит инфляцией. И борется с инфляцией, мы знаем как – путем создания благоприятных для неё условий. А еще путем исполнения «рекомендаций» западных консультантов: урезает социальные обязательства, выплачивая куцые пенсии на уровне продовольственной корзины (и то не всем), сходясь в этом отношении интересами с бизнесом, выплачивающим минимальные заработные платы. Власть предержащим давно пора понять, что при таком расслоении общества по доходам, при таком соотношении основных средств (82/18) в пользу частного сектора государство может декларировать социальные обязательства, но исполнить их в полной мере будет очень затруднительно. Теперь «придумали» еще один способ «борьбы» с коррупцией и инфляцией – сократить наличные деньги в обороте (как в промышленно развитых странах). Очевидно, недопонимая, что переведя всех работников на безналичные расчеты, изменить в производстве ничего нельзя, т.к. реальный сектор как жил на безналичных расчетах, так и будет продолжать работать в ожидании безналичных инвестиций. При этом денежный агрегат М2 составляет 46% от ВВП (42440,5/92081,9), в США – 74%, агрегат М0 (наличные деньги) – 8,8%, а в США – 21,5%. Ведь это не рынок ограничивает экономику и население в ресурсах – Правительство. Что будет, если М0 будет =0? Это не наполнит рынок товарами, а одарив малоимущих картами «МИР», вряд ли ускорит обращение денег, т.к. денег на их картах не прибавится. Это чуть расширит возможности банков по выдаче кредитов, тем самым как бы увеличив денежную массу. Т.е. прибавится некая сумма виртуальных денег – и всё. Но кредиты давать некому! В борьбе с коррупцией всё равно победит коррупция, которая раньше выражалась в реальных деньгах, будет выражаться в виртуальных купюрах, что более подходит для экономики, тоже по преимуществу виртуальной.
Из таблицы мы видим также, что отдача на каждый инвестированный рубль с каждым годом всё меньше. Отсюда еще раз можно убедиться, что регулирование деньгами может привести к обратному эффекту – сокращению производства. Спад производства неизбежно ведёт к сокращению и без того низкой занятости, а это, безусловно, сказывается и на реальном приросте ВВП и на росте экономики в целом. Колебания ВВП в долларовом исчислении в диапазоне от 1 до 2 трлн. долларов США – это реальный признак зависимости его показателей от внешней торговли (прежде всего углеводородами, где колебания зависят от количества и цены) и отсутствия признаков роста внутреннего производства и потребления. Несмотря на рост денежной массы М2, доходы в долларовом исчислении у всех от частных лиц до юридических также колеблются и не растут. Отсюда понятно стремление всех держать свои резервы в иностранной валюте, в т.ч. производственникам. Девальвация рубля играет роль своеобразного регулятора рублёвой денежной массы, чтобы колебалась в заданном диапазоне. Следовательно, игра в монетаризм с привязкой к доллару – плохой управляющий в экономике. Денежная масса в нормальной экономике должна материализоваться в производственные мощности (а не доллары) и приносить дивиденды больше, чем валютные операции. Мне могут возразить, что денежная масса идет на покупку более совершенной технологии за рубежом. Приведенная выше таблица опровергает такое возможное утверждение: как было сказано выше, новая технология повышает производительность труда и понижает стоимость товарной продукции. Отдача, т.е. товарная масса (физ.об. реального ВВП) на инвестированный рубль, должна расти. Этого нет. Печальный вывод приходится делать, что все усилия по строительству рыночной экономики увенчались полным провалом: ВВП в долларовом исчислении на 2016 г. выражается в сумме, которая существенно ниже уровня развального 1990 года (на 18,9%, правда, если не принимать во внимание всё время меняющуюся оценку ВВП), который любят нам демонстрировать с пустыми полками. Рынок в неумелых руках оказался недееспособным для роста экономики. Преимущества рыночной системы перед плановой у нас оказались иллюзорны. Однако стране по-прежнему навязывают приватизацию госсобственности (назло маме отморожу уши?), вверяя судьбу производства частнику, для которого деньги – всё, производство и трудовые отношения – ничто.
Но что имеет общего эта формула с бизнесом? Ничего. Значит, то, что у нас называют бизнесом, совсем не бизнес – банальная спекуляция на перепродажах.
Декабрь 2017 г.
Эффективность экономики – проблема государства или частного сектора?
Давно назрела необходимость обсудить эффективность реформ – туда ли мы идём? Пропаганда навязывает своё мнение – вот-вот начнется рост, а свет в конце тоннеля по-прежнему не виден – население нищает. Казалось бы, с эффективностью всё ясно. И перед нами опять встают злободневные вопросы: кто виноват и что делать? Либеральные источники вину сваливают на государство, считая его управление не эффективным. А что, частный капитал у нас эффективный? Действительно, чья социальная ответственность перед обществом больше – государства или частного капитала? Государство обязано обеспечить социальную защиту населения, прежде всего, оптимальным распределением ресурсов между обществом и капиталом, сводом законов и механизмами их реализации, предоставив экономическую составляющую (особенно в сфере производства потребительских товаров) свободному предпринимательству и частному капиталу. В жизни всё иначе: государство предоставило «свободу» предпринимательству, обложив его налогами, и всё стало совсем плохо, если оценивать положение дел не по тому, что мы видим по телевизору, а по реальной жизни. Проблемы экономики замалчиваются, а если и обсуждаются, то дискуссии сводятся к изложению уже принятых правительственных мер, которые якобы должны привести к успеху. Только успехов нет, и это остаётся за рамками обсуждений. Да что мнение – записки Ю.Болдырева в бытность Главным инспектором в адрес Президента с 90-х годов (за что и был уволен) и отчеты аналитиков Счетной палаты по сей день, похоже, Правительством игнорируются. За исключением отдельных «мелких» бухгалтерских недочетов и «оприходованных» миллиардов отдельных чиновников-"рыночников". Вместе с тем частный сектор, получивший без особых затрат в собственность 82% основных фондов казалось бы должен кинуться производить и производить – ведь выгодно. А он не торопится. Значит, выгоду не видит? Значит, там, где частный капитал не видит выгоды (как во всех цивилизованных странах) должно брать на себя ответственность за производство социально значимых товаров государство. Поэтому странно слышать, что государства в экономике должно быть как можно меньше. Если государственный чиновник настаивает на приватизации, он должен нести ответственность за результат: не только за деньги, поступившие в казну, но и за результат смены собственника, т.е. за повышение производства и его эффективности. Пока при приватизации мы не получаем ни того, ни другого. Если законодатели уклоняются от ответственности за последствия, значит, они не должны быть во власти, если, конечно, для государства важнее люди, а не деньги. Призывать к совестливости бизнес бесполезно. Социальную ответственность перед гражданским обществом должны нести те, кто осуществляет реформы приватизации якобы в интересах бизнеса. Того самого бизнеса, который опирается на население, а не на иностранного потребителя с евродолларами. Практика показала, что об интересах населения часто говорят только в пропагандистских целях. Из всего населения вниманием чиновники не обделяют разве что женщин, детей (про них даже с избытком, иногда безрассудно разрушая семьи через институт ювенальной юстиции) и инвалидов. Считается, что здоровые, выкинутые с работы, найдут себе применение в бизнесе. В то время как даже существующий мелкий бизнес в наших реалиях низкой покупательной способности населения не процветает, а с трудом выживает. От них, от здоровых, часто зависело благополучие и стариков, и женщин, и детей с инвалидами. О них, о здоровых, нужно было думать ещё раньше – тогда, когда сворачивали производство в угоду разорительному ипотечному бизнесу. Если промышленный объект попадал частному владельцу по программе приватизации, а он интереса в этом не находил, объект чаще всего ждало банкротство. Примеров тому полно: так в 2006г. «Роснефть» дочкой вошла в капитал старейшего станкостроительного завода «Красный пролетарий» и в результате на месте завода возникла строительная площадка под бесполезные офисы. Теперь это называется "создавать рабочие места". Возникает вопрос, с какой целью проводилась приватизация, для повышения эффективности? Социальная ответственность бизнеса заключается в привлечении к работе соотечественников, а не иностранцев, в выплате достойной заработной платы и уплате налогов, поэтому она тесно переплетается с умением государственных чиновников выстроить правильно взаимодействие между населением и бизнесом. В стране, конечно, есть честные предприниматели, я не о них. Я о тех, кто определяет экономическую политику и влияет на решения Правительства. Когда частный капитал, владеющий всеми производственными фондами гражданского производства, не выполняет социальных функций – производит всё меньше, при этом отказывает государству в праве на его участие в экономике, что ведёт к сворачиванию рыночных отношений, то начинаешь сомневаться в эффективности капитализма вообще.
Отсюда вопрос: капитализм мы строим или что-то ещё? Ведь первым признаком капитализма является ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Товарное производство без платёжеспособного населения невозможно. Наш внутренний рынок начинает всё больше напоминать натуральное хозяйство: одна часть населения занимается добычей и экспортом ресурсов, на вырученную валюту взамен осуществляются поставки импортных товаров. Добытчики сероводородов, мелкие предприниматели и чиновники тратят свою зарплату на приобретение импортных товаров и круг замкнулся. На что живут остальные, их (как и государство) не заботит. Товарное производство – это расширенное воспроизводство, это когда есть излишки, которые раскупаются всем населением с нарастающим объемом. Товарное производство – это прежде всего ПРОИЗВОДСТВО, которое строится на росте объемов товарной продукции и снижении постоянных затрат, это рост капитализации и покупательной способности населения. Капитализм – это кризисы ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА и борьба за рынки сбыта. Что же у нас, если основные признаки в экономике – банкротства, сворачивание производства, рост затрат на непроизводительные (в т.ч. управляющие и финансовые) структуры, рост армии чиновников и безработных? Государство не признаёт их безработными, раз не пришли для регистрации на Биржу труда (для этого надо занимать очередь с ночи, при этом не факт, что что-нибудь получишь). Но от этого ведь безработный не сделался занятым. А главное: у нас (в отличие от «образцового» Запада) армия безработных растёт не потому, что не нужно перепроизводство, т.е. сверх того, что нужно рынку, а потому, что нам (по мнению либеральных теоретиков) не нужно производство вообще. В этом кардинальное отличие положения коренного населения в России от жителей США и других «образцов» для подражания. И когда я соглашаюсь с тем, что где-то строят, производят, собирают нечто на современном уровне, я прежде всего думаю – а для кого это? Для потребителя на том же Западе? Тогда какое это имеет отношение к жителям России? Поэтому для анализа ситуации в российской экономике нужно понимание не локальных успехов в возведении цехов, никак не отразившихся на благополучии населения, а таких показателей, которые ведут к смещению отрицательного эффекта (например, сокращение рабочих) в положительную сторону – росту занятости. Это – как лакмусовая бумажка.
Официальная статистика изменчива, но это та статистика, на базе которой принимаются управленческие решения. Когда подтасовываются данные по росту доходов и низким расходам, это никак не отражается на реальном благополучии населения. Сколько ни говори «халва» – слаще не станет. Соприкасаясь со статистикой, любого из нас будут шокировать «розовые» очки, через которые видится Росстату положение населения. Чтобы придать очкам многоцветности, давайте с пристрастием посмотрим на цифры. Начнем, как водится, с хлеба насущного, с продовольственной корзины, рассчитанной профсоюзами в 1991 г. на взрослого работающего мужчину:
(Источник: 1991 год. Газета Труд № 105–106 от 09.09.1991 г.)

Если пересчитать эту корзину в современных ценах, сумма выльется минимум в 9900 рублей. Проследим, как рост её стоимости смотрится на фоне экономики в целом. Для этого:
Во-первых, фиксируем факт отсутствия государства, как конкурента частному сектору в производстве абсолютного большинства товарной продукции, производимой и продаваемой в стране. Доля государства в основных фондах составляет 18% и концентрируется преимущественно в ВПК, космической отрасли и общегосударственных нуждах, где, как мы знаем, есть некоторые успехи, базирующиеся на разработках ещё советского периода. В остальном (государство обвиняют в контроле 70% экономики) регулирование строится если не на законной налоговой основе, то на коррупционной составляющей (наследие тех же 90-х годов). Между тем, освобождая от государства все сектора экономики, частный сектор не торопился занять эту нишу, последовательно уступая её иностранным компаниям. В среднем уже к 2014 г. около 42% экономики России (точнее, того, что от неё осталось после 1991г.) контролировалось иностранным капиталом. (Сайт: Исторические материалы. Общий обзор иностранного капитала в промышленности России).
Если посмотреть процентное соотношение иностранного и отечественного частного капитала в различных сферах экономики, мы обнаружим, что даже небольшой процент иностранного капитала сегодня решает в отрасли всё: в электроэнергетике – немногим больше 3%, а какие разительные изменения не в лучшую сторону, то же и в образовании.
Во-вторых, обратим внимание на рост ВВП с 1398,5 млрд.рублей в 1991 г. до 92091,9 млрд.рублей в 2017 г. Судя по цифрам, темпы роста внушительные, но что стоит за этим ростом в натуральном выражении?
Подводя итоги приватизации, сотрудник Института им. Гайдара приводит такие данные: на 01.01.1993 г. в России значилось 204998 крупных госпредприятий на самостоятельном балансе, которые планировалось привлечь к приватизации. К 01.01.1995 из них осталось 126846 (т.е. 61,8%; а по числу занятых, по данным Росстат, – 42%) , загрузка их мощностей составляла 40–50% от установленной. Портфель заказов текстильной промышленности рухнул до 20%. К 1998 г. крупных производств осталось уже 88246. А на 01.01.2017 г. крупных и средних предприятий в России всего насчитывалось 51986 единиц, 25% от того, с чего начиналась приватизация. По некоторым данным сейчас у нас действительно крупных предприятий в материальном производстве – не больше 3,5 тысяч. Предлагаю читателю сравнить с КОЛОССАЛЬНЫМ ущербом, понесённом страной в годы Великой Отечественной войны, когда разрушено было 32 тысячи промышленных предприятий. Приватизация нанесла в 6,5 раз существенней урон экономике, чем война. От промышленного потенциала остались слёзы. И те работают вполсилы. Это совсем не вяжется с законом самовозрастания капитала, скорее с убыванием. Капитализм – это перелив капитала в отрасли, где возникает дефицит (а мы с дефицита начинали, следовательно, число производств должно было расти), с целью постепенного обновления, а не ликвидации старых производств. Между прочим, хочу обратить внимание, что по численности крупных и средних предприятий мы скоро уступим (если действительно уже не упали до 3,5 тысяч заводов и фабрик) тому, чем Россия располагала в 1897 г. Тогда насчитывалось 40504 предприятия (в границах империи), которые в ту эпоху можно было отнести к крупным и средним. Изменилось оснащение предприятий, выработка продукции, но вместе с тем выросли и потребности. Уничтожение 75% производственных площадей не могло не отразиться на физических объемах произведённой на территории России товарной продукции. Показательно производство тракторов: во времена СССР их производили 656 тыс. единиц в год, сейчас производится только 7 тысяч. Это – показатель, отражающий падение не только промышленного производства, но и сельскохозяйственного. Изменились и потребности в тракторах: страна имеет огромные пространства заброшенных земель. Где выращиваются зерновые и овощи, эксплуатируются на грани истощения путём бесконтрольного использования удобрений – продукты питания дорожают также бесконтрольно. Если измерить ВВП (значит, включая импорт) в натуральном выражении, например, количеством произведённых продуктовых пайков, потребляемых за месяц, получим следующее:

Итак, мы видим, что несмотря на рост ВВП в 65 раз, эквивалент продуктовых пайков производится и завозится по импорту в 2017 г. на 38% меньше, чем производилось и завозилось в 1991 г., когда был дефицит. Стоимость жизни в стране росла в 1,4 раза (91/65) быстрее, чем ВВП, что неизбежно вело и ведёт к обнищанию населения. Таким образом, весь «рост» ВВП за 26 лет – ничто иное, как мыльный финансово-деривативный пузырь. А если посчитать на душу населения, то картина станет совсем удручающей. Это говорят голые цифры официальной статистики, если оценивать объективно.
В-третьих, как результат, Россия имеет чудовищную безработицу, открытую и скрытую. И это понятно, т.к. отказ внутреннего рынка (читай, правящего политического класса) от производства и потребления готового продукта, произведённого в России, лишает работы целой цепочки производств (срабатывает мультипликационный эффект), начиная от переработки сырья до продажи готового продукта или изделия конечному потребителю, включая логистику. Закупки по импорту стимулируют рост безработицы в стране-импортёре и рассасывание безработицы, падение себестоимости и снижение инфляции в стране – экспортёре, т.е. не у нас. Минимум производства обязательно сопровождается максимумом безработицы. Это покажет статистика по любой стране. Росстат и Правительство руководствуются методикой МОТ, которая считает безработными только тех, кто зарегистрировался как безработный и получает пособие. Если государство сделает размер пособия равным хотя бы прожиточному минимуму и более лояльно отнесётся к регистрации, оно обнаружит, сколько в действительности в стране безработных. Пока пособие будет ничтожно малым, а число рабочих мест будет продолжать сокращаться, безработица будет расти, а государство будет делать вид, что такого явления как безработица, в стране почти нет. Разве не может вызвать недоумение статистика Росстата на 2016 г. по таким позициям, как: трудовые ресурсы России (82 млн.человек); численность рабочей силы (76 636 100 человек); среднегодовая численность занятых (72 065 000 человек) и списочный состав занятых (41 677 403 человека)? От первой цифры к последней «растеряли» ровно половину работоспособного населения – 41 млн. человек. А у нас говорят о кризисе рождаемости, дефиците рабочих рук и необходимости привлечения иностранцев. В списочном составе не значится 34 958 697 человек (от численности «занятой» в экономике рабочей силы), не нужных ни частному, ни государственному секторам экономики. Кроме того, по данным Счетной палаты из числа занятых 22 млн. человек живут ниже черты бедности. Эта статистика свидетельствует: а) о том, что сокращение производственных площадей не прошло даром – рынок неиспользуемой рабочей силы стал самым значительным в экономике за всю историю России (если не в мире); б) неконтролируемый рост численности незанятой рабочей силы – неопровержимый факт неэффективности частного капитала, который не только не стремится к расширенному воспроизводству, но и удовлетворяется четвертью того, что было ему даровано в 90-е годы, с тенденцией сокращения, а не расширения; в) государство терпит огромные потенциальные убытки вследствие неиспользования армии безработных: если считать 250 рабочих дней в году х 34 млн.чел.=8,5 млрд.рабочих человеко-дней потерянного труда в год. Значит, людям не дали заработать 10,2 трлн. рублей (исходя из средней зарплаты в 36 тысяч), что оживило бы потребительский рынок и пополнило бы казну налоговыми отчислениями. Если заработная плата составляет 30% от конечного продукта (предположим), следовательно, рынок недополучил продукции на 34 трлн. руб. Вот что значит не использовать рационально человеческий ресурс. Можно посчитать иначе, картина станет ещё более удручающей. Вот ещё независимое мнение:Дадыка Н. Н. и Шахбазова О. П. в своём «Анализе безработицы и ВВП в РФ» (см. https://e-koncept.ru/2016/ 46265.htm) пишут: «…наблюдаемое уменьшение ВВП на 2349 млрд. руб. привело к увеличению уровня безработицы с 2014 г. по 2015 г. на 0,37 %». Здесь явно надо поменять местами причину и следствие: увольнение рабочих (рост уровня безработицы) привело к падению ВВП. Из приведенных авторами данных следует, что каждый процент безработных лишает страну прироста ВВП на сумму 6348 млрд. руб. А у нас 44% рабочей силы не используется в экономике или используется частично (и даже больше: 82–41,6=40,4=почти 50%). Значит, экономика недополучает ВВП на сумму уже более 279 трлн. рублей в год. Безработный – это неиспользованный ресурс, актив, который в нашем случае стал пассивом и не участвует в товарообмене. И процент «потерянной» Росстатом рабочей силы растёт из года в год, начиная с 90-х годов. Правительство с завидным упорством делает выводы ровно наоборот – о необходимости привлечения иностранной рабочей силы. В действительности стране крайне недостаёт рабочих мест. Частный бизнес (а он несёт ответственность за долю в 82% экономики, в Китае – только 60%, зато как эффективно управляют!) не создаёт, а сокращает рабочие места, как мы выяснили выше; г) сокращение рабочих мест неизбежно влечёт сокращение покупательной способности и расходов населения (один из факторов, формирующих ВВП) с 12910,9 млрд. рублей в 2006 г. до 11904 млрд. в 2017 г., а, следовательно, и физического объема ВВП, если считать его по расходам. Выросли валовые инвестиции с 5415,8 млрд. до 14639,8 млрд.рублей, но в капитализацию не вылились. Поэтому отдача ВВП на вложенный рубль продолжает сокращаться, как и количество «пайков» в нём. Сокращая рабочие места, минимизируя выплаты в виде зарплаты и пенсий, «капитализм» в России ограничивает кредитно-финансовые отношения, сокращая не только потребительский рынок, но и сужая налогооблагаемую базу, низводя товарно-денежные отношения к минимуму. Для капитализма характерны рыночные отношения, когда растёт число продавцов и покупателей. Реформы в России изначально имеют тенденцию к сворачиванию рынка даже там, где он был: были колхозные поля, теперь это – пустующие земли. Были колхозные рынки, где продавалась отечественная продукция, теперь это «фермерские» рынки преимущественно со всем импортным. В командной экономике был свободный выбор профессии и такой же свободный труд, а теперь выбор не свободный, потому что список профессий сильно ограничен, и труд за низкую оплату – это труд принудительный, потому что альтернативой может быть только лишение работы и заработка. Единственно, где рыночные отношения победили – это рынок рабочей силы. Когда нет рынка, а есть «монополии» и миллионы безработных, легче принуждать к труду за низкую зарплату, чем стимулировать производство. Принудительный труд (под угрозой стать одним из миллионов безработных) намного дешевле свободного труда (а это то, к чему стремится так называемый российский «капитализм»), поэтому в стране так много гастарбайтеров. Свободный труд с достойной заработной платой много производительнее принудительного. Но свободный квалифицированный труд дороже стоит. Внедрение современных технологий требует больших затрат и рабочих с высокой квалификацией, а это всё то, за что российский частный бизнес не готов платить. Поэтому российское государство и российский предприниматель выбрали именно принудительный труд за МРОТ. И кто-то из чиновников ждёт роста производительности труда? Откуда этому росту взяться, если помимо растущих непроизводительных расходов во всех коммерческих сферах материального производства, влияние оказывают, по крайней мере, ещё 3 фактора: 1. Физическое здоровье и качество (уровень образования) рабочего. Если рабочий недополучает калории (зарплата позволяет потреблять только 2500 калорий вместо 3500, при этом физиологическая потребность, т.е. калории, необходимые для поддержания жизни, должны быть на уровне 2300), его производительная способность составляет 0,71; 2. Парк станочного оборудования в среднем изношен на 50% (в действительности больше), следовательно, коэффициент производительности – 0,5; 3. Сырьё, предположим, достаточно хорошего качества, – коэффициент 0,9. Получаем среднюю производительность для среднестатистического отдельного рабочего места: 0,71 х 0,5 х 0,9 = 0,32 нормы. Подставьте в расчёт коэффициент реальной оплаты труды, которая составляет едва треть от нормы, и мы получим очень низкий уровень стимуляции. Добавьте не лучшего качества импортные материалы (металл из Китая, цемент из Турции или Китая…), морально устаревающее оборудование, не выработавшее свой ресурс, технологическое отставание и высокую долю непроизводительных управленческих и коммерческих расходов, и мы получаем все составляющие низкой производительности. Отсюда: для роста производительности необходимо повысить заработную плату так, чтобы хватало не только на обеспечение семьи полноценным питанием и прочими потребностями, но и оставалось на производительный труд, убрать лишних «управленцев», повысить оснащенность рабочего места высокопродуктивным оборудованием (а не метлой и лопатой) и обеспечить качественным сырьём. Как? Гибкой налоговой системой!
В-четвёртых, если не убеждают приведённые выше цифры, – вот еще показатель нарастающей технологической отсталости (не в отдельных производствах, а по России в целом). Рост основных производственных фондов (ОФ) отстаёт от роста ВВП, органическое строение меняется в пользу ручного труда, а не машин. Отсюда ещё один показатель причины падения производительности труда: