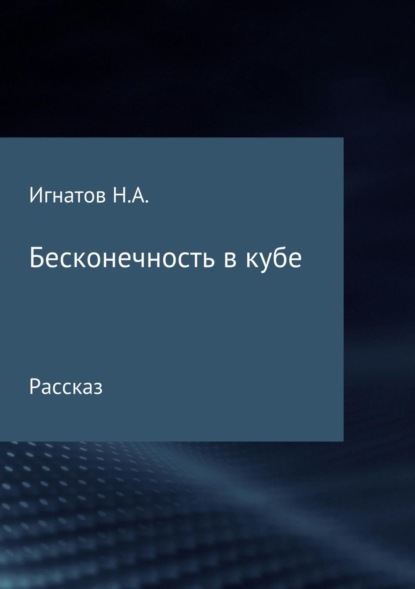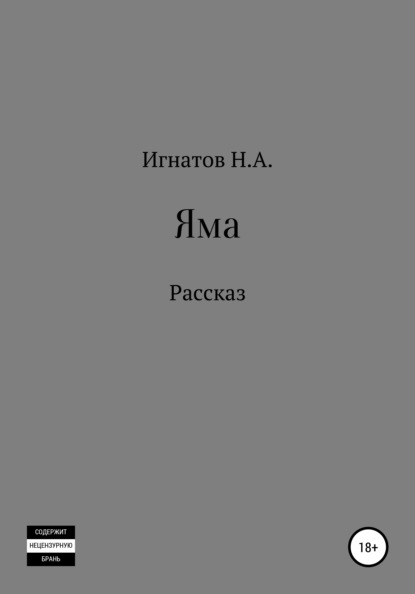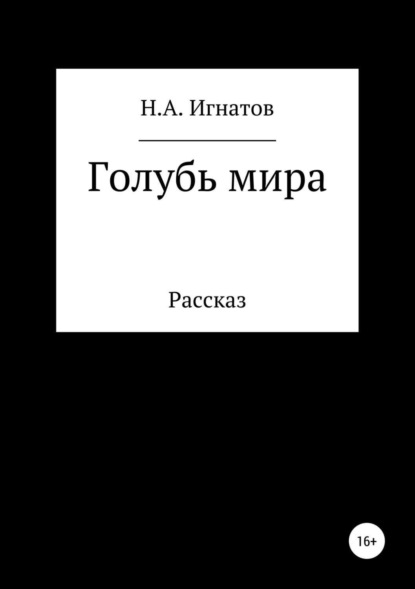 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Николай Александрович Игнатов Голубь мира
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Во имя жертв войны,
Всем, кто сражался за Родину, посвящается…
Никифор плюхнулся на койку, довольный и обмякший, и закурил папиросу. Кошачьим хмельным взглядом он провожал выходивших из хаты своих сообщников, стрелков из вспомогательной полиции уезда. Суета закончилась, выстрелы стихли, можно и отдохнуть, можно и подымить. Холодная мартовская ночь безучастно накрывала тишиной и темнотой весь поселок без остатка, всё обширное место преступления.
Керосиновая лампа цинично и даже с некоторой художественной издевкой едва освещала полуобнаженный труп хозяйки хаты, изувеченный и изуродованный. В хате был страшный бардак, Никифор с другими полицаями искали чего ценного, но толком ничего не нашли – все сплошь тряпье да немного дрянной посуды. Потому, наверное, и насиловали полуживую хозяйку с большим остервенением, обозлясь на скудость наживы. Хозяйка была лет сорока, добротная баба. Они сначала ее сильно избивали, выпытывая, где лежат хоть какие-нибудь ценности, а она (вот ведь ведьма!) упрямо твердила, что ничего у нее нет, что живут они сами впроголодь. Потом Федька Лопухов перестарался и саданул бабу прикладом в висок, когда та, услышав на улице визги и крики своих детей, начала сама кричать и вырываться. «Ироды проклятые! Душегубы! Мрази!» – вопила она хрипло, и все в таком духе, а Лешка хрясь её прикладом, она тут же и замолкла, свалившись на пол. Ну тут уж, переглянувшись подумали все разом, сам Бог велел, и молча принялись за любимое и привычное дело. Насиловали все трое, кто были в хате, потом позвали остальных с улицы, которые уже закончили с детьми и стариком, слепым отцом хозяйки. В сознание баба уже так и не пришла, последний из насильников, Лешка Древкин, вонзил ей финку под ребра. Потом и некоторые из остальных, шутки ради, втыкали ножи в мертвое уже тело. Впрочем, всем быстро это наскучило и труп оставили в покое.
Никифор с улыбкой вспоминал, что Федька всегда был такой вспыльчивый, еще когда до войны в деревне жили. Он мог не то что за слово, а даже за взгляд косой в ухо дать. А эта стерва, красная сволочь, мразью ругнула!
«Нет, все-таки дрянная это деревенька, – размышлял в полудреме Никифор. – Мало того, что партизан прячут, так еще и живут как оборванцы последние! Два часа сюда ехали, тряслись по ухабам, а ничего путного ни в одной хате не сыскали. Даже самогонки и той одна бутыль только нашлась. Да и партизаны, волчьё, как чуяли, посбегали в лес как раз перед нами, паскудное племя».
С улицы послышались голоса, кто-то звал Никифора и сообщал, что надо бы уже поджигать дом да выдвигаться назад в уездный центр. Другие голоса, впрочем, возражали. Говорили, мол, нечего уже на ночь глядя никуда ехать, переночевать бы здесь, а уж ранним утром и домой. Под общие одобрительные возгласы последнее предложение было принято. Никифор уже совсем спал и не слышал ни этих голосов с улицы, ни пьяного смеха, когда его сообщники сбрасывали тела обоих детей и старика в колодец. Он спал и видел туманные обрывки сновидений: вот он маленький лезет с отцом на голубятню (у них у одних в деревне была голубятня, еще тогда, в царское время), отец хочет достать ему белого голубя, чтоб он подарил тётке к свадьбе. Поднимаются они, значит, по лесенке, а кругом вихри листву крутят, небо серостью и холодом исходит, вороны жирные гаркают. Поднялись, а там вместо птиц сидят немцы. Натурально, с автоматами на груди, трое ваффенских рядовых и тот самый штурмшарфюрер Шойзаль в черной форме, которого Никифору две недели назад видеть в уезде довелось, из дивизии Райх, что прислали в усиление местным для борьбы с партизанами. «Железные люди, эти эсэсовцы, – подумалось тогда Никифору. – Ишь, какой статный! Такие и вправду легко и гордо смотрят, как с небес в адскую расщелину, на унтерменшей. Таким и точно ведь нет надобности копаться в нутре своем в поисках сострадания к выродкам этого гнусного племени. Да, нам еще далеко, нам еще учиться у них и учиться…»
Немцы сидят, хохочут, и у каждого в руках стакан со шнапсом. Увидели Никифора с отцом, перестали смеяться и штурмшарфюрер Шойзаль, серьезно так, чуть задрав нос, прогнусавил: «Щто, са холупем прищли, братья меньший?». Остальные трое начали было ржать, но эсэсовец остановил их жестом. «Так фот он, фосьми», – сказал он и пнул сапожищем к ногам отца что-то бело-красное, исковерканное, гадкое. Отец бережно поднял изуродованный птичий труп и злобно посмотрел на Никифора. Немцы снова громко засмеялись, на этот раз все вчетвером. Никифор протянул было ручонку к мертвому голубю, но тот внезапно вскочил, встрепенулся, размотав висящие из разорванного брюшка кишки, и быстрым движением клюнул Никифора в плечо, да так больно, что он проснулся.
«Просыпайся, изверг фашистский!» – озверевшим голосом прохрипела Авдотья, втыкая финку во второе плечо Никифора.
Никифор взвизгнул и подскочил было с кровати, одуревшими рыбьими глазами стараясь пронзить темноту, но тут же получил сильный и тяжелый удар в морду чем-то вроде кастета. Он замычал и, сев опять на измятую перину, схватился левой рукой за нос, а правой еле заметно пошарил сбоку на койке. Автомата не было на месте.
«Что, паскуда, шмайссер свой ищешь?!» – сказала зло Авдотья, поправляя кастет на правой руке, – «Теперь он мой. Сиди, тварь, не двигайся, а не то яйца отстрелю».
Никифор затих и не двигался более. Он узнал этот голос и понял, что теперь все для него кончено.
– Что за «шмайссер», Сологуб? Это ты так МП называешь?
Авдотья Сологуб, совсем молоденькая, но уже опытная партизанка из отряда «Смерть фашизму!», сидела в землянке и глядела в пол. Чумазое и обветренное лицо ее было не по годам (ей нет еще восемнадцати) серьёзным, а в глазах читался до ужаса громоздкий и неподъемный для иного восьмидесятилетнего старика жизненный опыт. Точнее опыт выживания и умерщвления. Она очень устала, буквально проваливалась в сон, и сидела сейчас на большой чурке в землянке, не засыпая только благодаря обширной харизме командира, ведущего допрос, и безмерного её к нему уважения. Лейтенант госбезопасности Абаков Егор Иванович, присланный народным комиссариатом двав месяца назад в отряд для замены погибшего командира, повторил вопрос, который, как ему показалось, сонная Авдотья просто не услышала.
– Авдотья, ты спишь что-ли? Я говорю, что за «шмайссер?» Пистолет-пулемет МП-38?
Она подняла голову и кивнула. Абаков закурил папиросу и сел напротив нее на топчан.
– Товарищ Абаков…, – слабо прохрипела она. – Можно я спать пойду. Сутки не спала, сил нет.
– Пойдешь. Скоро пойдешь. Скоро так пойдешь спать, что проснешься не в отряде уже, а…
Авдотья сверкнула на командира ястребиным хищным взглядом.
–Что глазками сверкаешь? – чуть усмехнулся он, видимо уставая уже выглядеть суровым начальником перед этой, в сущности, совсем еще девчонкой.
– Ты что же, Дуня, думаешь, нарушение приказа командира так вот просто с рук сходит? Причем целенаправленное и наглое нарушение.
– Куда ж вы меня теперь, из отряда-то? К немцам что-ли? Дальше фронта не пошлешь, а мы и так уж в тылу у них, так что…
– Что «так что»? – вдруг вскрикнул командир. – Дурёха, ты думаешь, раз мы не в действующей части, так и закон военного времени здесь не работает?
– Ой, товарищ Абаков, делайте что хотите! – устало махнула Авдотья рукой и слезы обиды показались на ее глазах.
– Да как же ты не понимаешь?! А, черт с тобой! Ну скажи, зачем ты убила его? Огрызкин Никифор, он уже в звании поручика у них был, его в начальники шутцманов перевели из полицаев… Он, он столько знал! Он живой был нужен, понимаешь?!
– Черта с два! – закричала, не выдержав Авдотья, вскочила было на ноги, но вдруг зарыдала, закрыв лицо руками.
Абаков повидал всякое за годы службы, а уж тем паче – за время войны. Но видеть рыдающую Авдотью ему почему-то сейчас было совсем невмоготу.
– Ладно, Дунька, брось ты это…рыдать, – он подошел и положил тихонько руку ей на плечо. – Понимаю тебя, я б и сам его, если б он мою мать…как твою. Притащила б его живым, я б все разузнал от него про эсэсовцев, а уж потом тебе на расправу выдал. Знаешь ведь, что нам эсэсовский язык позарез нужен. Ну чего ты, дуреха, а ну прекрати слезы, не позорь отряд.
Авдоться и вправду перестала плакать. Она повернулась к командиру, и он увидел в глазах ее прежнюю колкую злость.
– А я у него и сама все разузнала.
Она рассказала в подробностях весь свой не такой уж длинный разговор с Никифором. Поведала об обстоятельствах его захвата; о том, как ее группе пришлось сначала заманить шутцманов в деревню (что Никифор их возглавит в этом рейде, было также известно); о том, что жители всех трех оставшихся домов в деревне были убиты и стали очередными, хоть и лишними жертвами зверств предателей; о том, наконец, как их группа подобралась, когда стемнело, к дому, где каратели решили заночевать, и как всех их тихонько сняли, а Никифора (в дым пьяного, спящего в хате) оставили Авдотье…
До войны жили они с ним в одном поселке, тут же в Верховском районе. Дунька, как все звали Авдотью, росла спокойной, тихой девчонкой, хорошенькой, впрочем, и неглупой. Она до рассвета поднималась, вместе с матерью шла поить и кормить скотину, приносила воду, помогала приготовить нехитрую трапезу. Потом она шла в контору, где работала машинисткой, благо была грамотная. Вечером снова по хозяйству. Изредка, может раз в неделю, мать отпускала Авдотью на танцы или просто гулять с друзьями-подругами, впрочем, та особо и не рвалась, и не смотря на бурлящую, молодую кровь, глубоко понимала надобность помогать семье и была безропотна. Сводный брат Авдотьи, Василий, жил с отцом в Орле, потому виделась она с ним крайне редко, хотя относилась к нему тепло. Здесь, немного забежав вперед, можно сказать, что после войны брат с сестрой стали близки крайне, потому как других, кроме друг друга, родных у них не осталось.
В общем и целом, Авдотья была простой, скромной, деревенской девкой, потому хищные взгляды многих одурманенных гормонами холостых ловкачей, вроде Никифора или его дружка Федьки Лопухова, она старательно игнорировала, храня целомудрие.
Никифору на ноябрь сорок первого было сорок лет, жил он один в родительском доме, который, сказать к слову, привел в их отсутствие в полное запустение. Числился он слесарем в моторно-тракторной станции. Именно числился, работать толком он там не работал по причине регулярного пьянства и разгильдяйства. По профессии, однако, был он животноводом, но скотину особо не любил и, как сам выражался «брезговал этим дерьмовым ремеслом». Отцовская голубятня, доставшаяся по наследству, в которой предок Никифора души не чаял, обратилась в руины первая в хозяйстве, а птицы передохли или разлетелись.
И отца и мать постигла печальная участь сразу после свертывания НЭПа, мать сослали куда-то (не сообщив никому – куда именно), отца расстреляли за расхищение соц. собственности. Еще до революции отец Никифора, Степан Степанович Огрызкин, имел лавку и мастерскую в поселке, и жили они, конечно, на зависть односельчанам, зажиточно. После революции, не мудрено, все пришло в упадок, но начавшийся вскоре НЭП вселил в Степана Степановича большой оптимизм и он с энтузиазмом восстановил свое дело, и пошло оно чуть не лучше прежнего.
Уже потом, через годы после расстрела отца, Никифору сообщили факты из его дела. Донесли до него, среди прочего, что подворовывал Степан Степанович пшеницу из колхозных амбаров, причем ту, что полагалась к выдаче по налогу, а затем продавал ее в своей же лавке и даже большими партиями по-дешевке; а еще он не стеснялся принимать к реализации краденное имущество и вообще с воровским элементом не только района, но и всей области, якшался как с названными братьями. Никифор, конечно, не верил во все это и называл поклепом на честь семьи, и ненависть к Советской власти его крепла с каждым днём. Он, впрочем, и сам знал о связях отца с жуликами и о многих его темных делах, но твердо был уверен, что расстреляли его не за это, а просто из зависти к его умению обогатиться и хорошо жить даже в условиях, когда вся страна была в разрухе. Они, думал он, нашли только предлог для расправы, ничего, притом не сумев даже доказать. А мать пошла сообщницей, ей дали десять лет, и так она домой больше не вернулась.
Сам Никифор, к слову сказать, успел повоевать в Деникинской армии, участвовал в двух-трех наступлениях, весьма успешных, когда деникинцы всерьез думали захватить Москву. Он даже получил тогда звание фельдфебеля. Но, когда Красные прижали их обескровленный полк к крутым берегам Дона, фельдфебель Огрызкин, недолго думая, резко охладел к идейной составляющей Добровольческой армии и белого движения в целом. Вера в то, что Россию еще можно избавить от этого «жидовского большевизма» умерла в нем в тот холодный ноябрьский вечер, когда он, скинув шинель, и переодевшись в какое-то гражданское тряпье, отобранное им в ближнем хуторе «для нужд Русской армии», ускакал в неизвестном направлении. Позже он вынырнул сначала где-то у Красных, примкнув к беженцам, и достоверно имитируя безнадежного чахоточника, а затем и вовсе оказался в родном селе, весь понурый и вообще искалеченный войной. Чуя звериным чутьем скорый конец сопротивлению большевикам, он, с гримасой несносимой душевной боли и тоски, глаголил всем односельчанам о том, как бился с «белой сволочью» в дивизии Буденного, о том, как был ранен и контужен и как едва смог дотопать до дома.
– Так значит, Дуня, пострелы из дивизии Райх к нам пожаловали… Скверно… – задумчиво, как бы сам себе сказал Абаков, глядя в пустоту и так сильно втягивая в легкие дым папиросы, что казалось, от этого зависело многое в его жизни.
– Егор Иваныч, ну будь ты человеком, отпусти спать, – жалобно просипела Авдотья, наклонив сильно голову.
– Да пойдешь сейчас, – встрепенулся Абаков и потер воспаленные глаза. – Точно не забыла ничего? Все рассказала?
– Да точно, точно.
– Эх, кабы еще знать сколько именно этих гадов прислали. Неужто всю дивизию? Эти суки могут, надоело им с партизанами в тылу вошкаться, когда фронт горит. Ну, раз прислали эсэс, значит, Дунька, дело мы правильно делаем! Значит так свербит у них в заднем месте, что сил нет.
Он хотел было еще сказать что-то, подхваченный волной болезненного воодушевления, возникшего на фоне почти полного отсутствия сна, но осекся, взглянув на Авдотью и заметив, что та спит. Абаков подошел к столу, положил в консервную банку потухший сам собой окурок и повернулся на спящую партизанку. В тусклом мерцании керосиновой лампы ее лицо, пусть чумазое и обветренное, было милым и даже красивым. Абаков на секунду впал в оцепенение, до того далеко завело его затуманенный от усталости ум воображение, разгоревшееся от простого созерцания Дунькиных немытых щек и губ. Придя в себя, он отчетливо сумел распознать из тараканами разбежавшихся мыслей только одну – всеобъемлющая и всепреодолевающая сила волнами исходила от этого юного лица. Было совершенно ясно – этот дух молодости, эту волю к жизни не сломить никому и ничему, ни вермахту, ни предателям, ни эсэсовцам. Сколько бы они ни убили людей, скольких бы ни изувечили, итог будет один – мы победим!
Абаков осторожно взял на руки спящую Авдотью, положил на свой топчан и укрыл рваной своей шинелью. Потом он вышел из землянки, проверил дозорных и вернувшись, лег на пол и сразу же уснул, успев только подумать, что верно наврала ему Дунька про допрос свой Никифора, уж больно мало деталей было в ее рассказе.
…………………………………………………………………………………………………
Командир был прав – Авдотья не поведала ему многого из последнего разговора с Огрызкиным. Можно смело сказать, что она ограничилась в скупом монологе своем лишь тем, что было бы интересно услышать товарищу лейтенанту госбезопасности, самое же интересное, соль разговора, так сказать, она, конечно же, утаила. И правильно, зачем очернять себя в глазах командира, у которого ты на хорошем счету. Хотя она и заметила давно, что заглядывается он на нее, потому и позволить себе могла в разговоре то, за что иных могли и сурово наказать.
Дуня не поведала о том, что в своей душевной беседе с Никифором придерживалась больше ностальгических нот. Так, к примеру, она заставила его в подробностях вспоминать некоторые особые для нее факты из их общей биографии. Огрызкин долго мычал сначала, показывая, дескать, что и не помнит толком ничего, но стоило Авдотье один лишь разок выстрелить ему в ногу, с его памятью сделались чудеса. Он вспомнил все, о чем она просила. И как они с Лопуховым и остальной шоблой убили председателя Сельсовета, и всю его семью; и как водрузили потом изувеченные тела председателя и его жены на кресты с табличками, где было написано «Добро пожаловать, освободители!» и выставили эти кресты на дороге еще за полдня до приезда немцев; о том, как они согнали в сарай и сожгли заживо всех партийных и активистов вместе с детьми; о том, как изнасиловали и убили мать Авдотьи, и как изнасиловали ее саму…
Никифор истекал кровью. Он стонал от боли и умолял. Умолял не добить его, избавив от мучений, а помиловать, отпустить. До того сильна была его животная воля к жизни, что даже здесь, в безысходной ситуации, он с мюнхгаузеновским оптимизмом продолжал надеяться на спасение своей жалкой жизни. Авдотья глядела на него с такой злобой, что даже самый фантастический оптимист, увидев ее взгляд, безоговорочно признал бы тщету надежд. Совсем коротко осведомившись о прибывших недавно в уезд эсэсовцах (та, собственно, информация, которую Абаков хотел получить от живого Никифора), она достала из сапога финку и бросила рядом с Никифором на кровать.
– Отрежешь себе причиндалы, отпущу, – сухо объявила она.
Огрызкин на мгновение прекратил стонать, мельком взглянув на огромный нож. Казалось, искра тупой, но светлой надежды мелькнула в его глазах.
Почему-то особо отчетливо в Дуниной памяти на долгие годы запечатлелись отдельные слова Никифора Огрызкина, негодяя и предателя. Она услышала их, в один из тех страшных июньских дней, когда война только началась. Кажется, она тогда возвращалась из Сельсовета, после очередного собрания, на котором слушали официальные заявления и прочие «голоса центра». Никифор с дружками пил, как обычно, рядом со своим дряхлым домом. У них было весело – смех и гармонь громко звучали из-за покосившегося забора. Дуня, проходя мимо, чуть прислушалась – ей было интересно каково это вот так, во время всеобщей тревожности, суровой сплоченности и вообще военного положения, каково это в такое трудное для всех время – пить и веселиться?! И что, никто их не поставит на место?! Неужто и управы на них нет? Она остановилась у забора и прислушалась. Гармонь чуть стихла, и зазвучал громкий (он всегда, когда напивался, говорил крайне громко) голос Никифора, чьи слова, правда частично ускользали от слуха Дуни ввиду шума и расстояния.
«…ничего, братцы, нам бы только потерпеть! Ага, мать их, старую кобылу, ржавой кочергой! Потерпим и придут они, да освободят нас от этого…от этих, этой красной сволочи! Да чего ты ржешь, Федул?! Я вот слышал, у них там…с бабами того, проще намного… Там, ежели сноровка есть, да при деньгах, там такое можно…а бабы же все на деньгу длинную падки…ну и на еще кое-что…». Дальше грянул такой общий хохот, что Авдотья даже смутилась и уже пошла было, но хохотать тут прекратили и она прислушалась снова.
«…когда они придут, ей Богу, братцы, с хлебом-солью встречу! Ей Богу! Слыхали, чего говорят? Мы, говорят, пришли освободить Россию от большевизма! Понял?! О как! Ничего, мы пиво немецкое пить будем, да на Мерседесах ездить, когда эту дрянь красную скинут!».
Дальше Авдотья вспомнить не могла. Выстрелив из револьвера в живот Огрызкину, она вышла из избы, где ее уже заждались товарищи по отряду. Пора было уходить к своим. В общем и целом она была удовлетворена. Она оставила в этой избе не только умирающего в муках врага народа и всего живого, с двумя пулями в теле и без полового органа, который он сам, со страшным криком, себе оттяпал; она оставила там жажду мести, муки воспоминаний, оставила само свое прошлое.
Только одна эта проклятая фраза: «…пиво немецкое пить будем, да на Мерседесах ездить…» преследовала ее всю ее долгую жизнь. И что это за Мерседесы такие и как на них ездят узнала она только после войны.
…………………………………………………………………………………………………
– Пиво б сейчас немецкое пили, не то что наше говно, да на меринах бы все катались! А эти козлы столько народу положили, и ради чего?! – Виталий на секунду затих, затем намахнул рюмку и кивнул в сторону окна. – Ради этого что-ли?!
Ненадолго наступило молчание. Большая зала, посреди которой был накрыт большой праздничный стол, посвященный Великому Дню Победы, вместила сегодня представителей целых четырёх поколений.
– Ну, не знаю, – негромко сказал Рома, самый младший из собравшихся, семнадцатилетний первокурсник с истфака, – Я думаю навряд ли мы сейчас вообще за этим столом сидели, если б немцы победили.
– Конечно, – усмехнулся Виталий, гражданский муж Роминой тетки, Светланы, дородный и довольно нахрапистый, вечно небритый, но дорого одетый детина, – Конечно сегодня б не собрались, никакого дня Победы не было б, а был бы… ну какой-нибудь «день Освобождения России». Вот его бы и праздновали.
Виталий с довольным видом продолжил закусывать жаренной курицей, а Рома, нахмурившись, задумался о чем-то. Светлана весь почти вечер сидела в телефоне, просматривая блоги своих «конкурентш» по знанию «бьюти лайф». Ее родители, Анна Васильевна и Андрей Порфирьевич, степенно распологались возле главной виновницы торжества – слепой и совсем старой (и даже, по общему мнению, давно выжившей из ума) бабки Авдотьи. Анна Васильевна была дочерью Василия Юрьевича, брата бабки Авдотьи, того самого, что жил с отцом в Орле. Конечно, все косились на бабку, во время сомнительных реплик Виталия, относительно цены Победы, но особо никто не переживал, что она что-то услышит или поймет услышанное – ни слуха, ни зрения, ни, собственно, памяти почти уже у нее не осталось. Всё сидит, да улыбается, да кивает.
Своих детей у бабки Авдотьи не было, и отношение к Великой Отечественной Войне, хоть и косвенное (ветеран тыла), имела из всех родственников она одна, вот все они и решили собраться сегодня, девятого мая, у нее. Исключение, стоит здесь отметить, составляли только ее оба правнучатых племянника – Рома и Вика, студенты из Москвы, которые уже несколько лет приезжают регулярно к бабе Дуне на День Победы.
Хотя детей она и не имела, о племянниках и о внучатых племянниках в свое время заботилась она много. До войны жили они с братом в разных областях, Авдотья – в Брянской, Василий, вместе с отцом – в Орловской. Василий был на шесть лет младше. Когда отец оставил жену с маленькой Дуней, и уехал в город, девочке было четыре года. Однако, он не забывал их, присылал деньги, подарки, и писал, надо сказать, регулярно. Благодаря этим письмам Авдотья и узнала о брате, и до войны успела даже раза три с ним повидаться, когда мать брала ее с собой в поездки в Орел. После войны же, Авдотья сама нашла отца с братом (их эвакуировали на Урал), переехала к ним в город и стали они жить одной семьей. К тому же, других родственников у неё не оставалось.
Время шло, жили они дружно, Авдотья вышла замуж за фронтовика, героя многих сражений. Василий женился чуть погодя, и уже через год родилась у него дочь, Анна. У Авдотьи же забеременеть так и не получалось, и она с большой радостью тратила все свободное свое время на любимую племянницу, оказывая большую поддержку семье брата.
Время бежало, вскоре, при невыясненных обстоятельствах пропал без вести муж Авдотьи, затем умер от туберкулеза отец. А еще через некоторое время уже Анна повзрослела, вышла замуж и родила сына, Александра. Авдотья пуще прежнего взялась за заботу о малыше, ей так было легче пережить смерть и мужа (что он мертв уже никто не сомневался) и отца, и тоску о том, что не судьба ей родить самой.
Время неслось невероятно, вот и сестра Саши, Светлана, родилась. Авдотье уже шел тогда шестьдесят второй год, но она и тут приняла активнейшее участие в жизни малышки, благо теперь была на пенсии, и времени был вагон. Казалось, время Авдотьи уже на исходе, когда через тринадцать лет после рождения Светы, в семье Александра родилась сначала дочь, Вика, а через два года родился и сын, Рома. Тут Авдотья уж сильно сдала. Зрение резко ухудшилось, слух тоже, а с памятью просто беда приключилась. Но с правнучатыми племянниками она, все же, понянчилась, хотя ей было и тяжело.
Потом время как будто остановилось. По крайней мере так ощущали почти все Авдотьины родственники. Старая, немощная старуха жила одна в огромной сталинской трехкомнатной квартире, оставшейся от отца, была, при этом единственным собственником и не собиралась умирать. Квартирный вопрос не так уж мучил их всех, но на всех давлело невысказанное возмущение – чего это, дескать, ты, бабка, век себе намерила что-ли?! Будь человеком, уйди уже, дай пожить другим. Но бабка Авдотья не уходила.