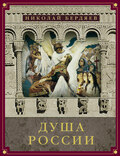Николай Бердяев
Миросозерцание Достоевского
Тема Раскольникова означает уже кризис гуманизма, конец гуманистической морали, гибель человека от самоутверждения человека. Возникновение мечты о сверхчеловеке и сверхчеловечестве, о высшей морали человеческой означает, что гуманизм изжит и кончился. Для Раскольникова уже не существует гуманности, его отношение к ближнему жестоко и беспощадно. Человек, живое, страдающее конкретное человеческое существо, должен быть принесен в жертву сверхчеловеческой «идее». Во имя «дальнего», нечеловеческого «дальнего» можно как угодно поступить с «ближним», с человеком. Сам Достоевский исповедует религию любви к «ближнему», и он изобличает ложь религии любви к «дальнему», нечеловеческому, сверхчеловеческому. Есть «дальний», который заповедал любить «ближнего». Это – Бог. Но идея Бога есть единственная сверхчеловеческая идея, которая не истребляет человека, не превращает человека в простое средство и орудие. Бог открывает себя через Своего Сына. Сын же Его – совершенный Бог и совершенный человек, Бого-Человек, в котором в совершенстве соединено божеское и человеческое. Всякая другая сверхчеловеческая идея истребляет человека, превращает человека в средство и орудие. Идея человекобога несёт с собой смерть человеку. Это можно видеть на примере Ницше. Также смертельна для человечества идея нечеловеческого коллектива у Маркса, в религии социализма. Достоевский исследует роковые последствия одержимости человека идеей человекобожества в разных ее формах, индивидуалистических и коллективистических. Тут царство человечности кончается, тут не будет уже пощады человеку. Человечность была еще отблеском христианской истины о человеке. Окончательная измена этой истине отменяет гуманное отношение к человеку. Во имя величия сверхчеловека, во имя счастья грядущего, далекого человечества, во имя всемирной революции, во имя безграничной свободы одного или безграничного равенства всех можно замучить или умертвить всякого человека, какое угодно количество людей, превратить всякого человека в простое средство для великой «идеи», великой цели. Все дозволено во имя безграничной свободы сверхчеловека (крайний индивидуализм) или во имя безграничного равенства человечества (крайний коллективизм). Человеческому своеволию предоставлено право по-своему расценивать человеческие жизни и распоряжаться ими. Не Богу принадлежит человеческая жизнь, и не Богу принадлежит последний суд над людьми. Это берет на себя человек, возомнивший себя обладателем сверхчеловеческой «идеи». И суд его беспощаден, безбожен и бесчеловечен. Роковые пути этого человеческого своеволия, в индивидуалистической и коллективистической форме, Достоевский исследует до глубины и изобличает их соблазнительную ложь. Раскольников один из одержимых такой ложной идеей. Он сам, по своеволию и произволу своему, решает вопрос, можно ли убить хотя бы последнего из людей во имя своей «идеи», Но решение этого вопроса принадлежит не человеку, а Богу. Бог есть единственная высшая «идея». И тот, кто не склоняется перед Высшей Волей в решении этого вопроса, истребляет ближних и самого себя. В этом смысл «Преступления и наказания».
Пути человеческого своеволия, влекущего к преступлению, Достоевский дальше и глубже исследует в «Бесах». Там явлены роковые последствия одержимости и безбожной индивидуалистической идеей, и безбожной коллективистической идеей. Петр Верховенский от одержимости ложной идеей теряет человеческий образ. Разрушение человека очень далеко ушло по сравнению с Раскольниковым. Петр Верховенский на все способен, он считает все дозволенным во имя своей «идеи». Для него не существует уже человека, и он сам не человек. Мы выходим уже из человеческого царства в какую-то жуткую нечеловеческую стихию. Одержимость безбожной идеей революционного социализма в своих окончательных результатах ведет к бесчеловечности. Происходит нравственная идиотизация человеческой природы, теряется всякий критерий добра и зла. Образуется жуткая атмосфера, насыщенная кровью и убийством. Убийство Шатова производит потрясающее впечатление. Что-то вещее, пророческое есть в картине, раскрывающейся в «Бесах». Достоевский первый узнал неотвратимые последствия известного рода идей. Он глубже видел, чем Вл. Соловьев, который острил о русских нигилистах, приписывая им формулу: человек произошел от обезьяны, поэтому будем любить друг друга. Нет, уж если человек не образ и подобие Божие, а образ и подобие обезьянье, то любить друг друга не будут, то будут истреблять друг друга, то разрешат себе всякое убийство и всякую жестокость. Тогда все дозволено. Достоевский показал перерождение и вырождение самой «идеи», самой конечной цели, которая вначале представлялась возвышенной и соблазнительной. Сама «идея» безобразна, бессмысленна и бесчеловечна, в ней свобода переходит в безграничный деспотизм, равенство – в страшное неравенство, обоготворение человека – в истребление человеческой природы. В П. Верховенском, одном из самых безобразных образов у Достоевского, человеческая совесть, которая была еще у Раскольникова, совершенно уже разрушена. Он уже не способен к покаянию, беснование зашло слишком далеко. Поэтому он принадлежит к тем образам у Достоевского, которые не имеют дальнейшей человеческой судьбы, которые выпадают из человеческого царства в небытие. Это – солома. Таков Свидригайлов, Федор Павлович Карамазов, Смердяков, вечный муж. Между тем как Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Версилов, Иван Карамазов имеют будущее, хотя бы эмпирически они и погибли, у них есть еще человеческая судьба.
Достоевский исследует и обнаруживает муки совести и покаяние на такой глубине, на какой они до сих пор не были видимы, он открывает волю к преступлению в самой последней глубине человека, в тайных помыслах человека. Муки совести сжигают человеческую душу и тогда, когда человек никаких видимых преступлений не совершил. Человек кается, обличает себя, хотя воля к преступлению не перешла ни в какие действия. Не только закон государственный, но и нравственный суд общественного мнения не доходит до самой глубины человеческой преступности. Человек знает про себя более страшные вещи и считает себя заслуживающим более сурового наказания. Совесть человеческая более беспощадна, чем холодный закон государства, она большего требует от человека. Мы убиваем наших ближних не только тогда, когда приканчиваем их физическую жизнь огнестрельным или холодным оружием. Тайный помысел, не всегда доходящий до человеческого сознания, направленный к отрицанию бытия нашего ближнего, есть уже убийство в духе, и человек ответствен за него. Всякая ненависть есть уже убийство. И все мы убийцы и преступники, хотя бы закон государственный и общественное мнение почитали нас в этом отношении безупречными и не заслуживающими никакой кары. Но сколько убийственных токов испускаем мы из глубины нашей души, из сферы подсознательного, как часто воля наша направлена на умаление и истребление жизни наших ближних. Многие из нас в тайниках своей души пожелали смерти своему ближнему. Преступление начинается в этих тайных помыслах и пожеланиях. И у Достоевского необычайно углубляется и истончается работа совести, она обличает преступление, ускользающее от всякого государственного и человеческого суда. Иван Карамазов не убивал отца своего Федора Павловича. Убил его Смердяков. Но Иван Карамазов казнит себя за преступление отцеубийства, муки совести доводят его до безумия. Он доходит до последних пределов раздвоения личности. Внутреннее зло его является ему как другое его «я» и терзает его. В тайных помыслах своих, в сфере подсознательного, пожелал Иван смерти отца своего Федора Павловича, дурного и безобразного человека. И он же все время разговаривал о том, что «все дозволено». Он соблазнял Смердякова, поддерживал его преступную волю, укреплял ее. Он – духовный виновник отцеубийства. Смердяков – его второе, низшее «я». Ни суд государственный, ни суд общественного мнения ни в чем не подозревает и не обвиняет Ивана, не доходит до этой глубины. Но сам он переживает муки совести, от которых горит в адском огне его душа, мутится его ум. Ложные, безбожные «идеи» довели его до тайных помыслов, оправдывающих отцеубийство. И если он человек, который будет еще иметь свою судьбу, то он должен пройти через огненное покаяние, через безумие. Ведь и Митя Карамазов не убивал своего отца и пал жертвой несправедливого суда человеческого. Но он сказал: «Зачем живет такой человек?» И этим он совершил отцеубийство в глубине своего духа. Несправедливую, незаслуженную кару холодного закона он принимает как искупление своей вины. Вся психология отцеубийства в «Братьях Карамазовых» имеет очень глубокий, сокровенный, символический смысл. Путь безбожного своеволия человека должен вести к отцеубийству, к отрицанию отчества. Революция всегда ведь есть отцеубийство. Изображение отношений между Иваном Карамазовым и его другим низшим «я» – Смердяковым – принадлежит к самым гениальным страницам у Достоевского. Путь своеволия, путь, отвергающий благоговение перед сверхчеловеческим, должен привести к тому, что подымается образ Смердякова. Смердяков и есть страшная кара, подстерегающая человека. Страшная, безобразная карикатура Смердякова стоит в конце этих стремлений к человекобожеству. Смердяков победит на этом пути. Иван же должен сойти с ума. Такое же глубокое изобличение преступления в тайных помыслах, хотя бы это лишь было попустительство, мы видим в отношении Ставрогина к гибели своей жены Хромоножки. Федька Каторжник, виновник смерти Хромоножки, считает себя соблазненным Ставрогиным, как бы его агентом. И Ставрогин чувствует свою вину. Вот на какой глубине ставит Достоевский проблему зла и преступления.
«Без „высшей идеи“ не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно – идея о бессмертной душе человеческой, ибо все остальные „высшие идеи“ жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают». «Самоубийство при потере идеи о бессмертии является совершенной и неизбежной необходимостью для каждого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем уровне над скотами». «Идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь ее, окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества». Так писал Достоевский в «Дневнике писателя» о бессмертии. У Достоевского была центральная для него мысль, что если нет бессмертия, то все дозволено. Проблема зла и проблема преступления была связана для него с проблемой бессмертия. Как понять эту связь? Мысль Достоевского не означает, что у него была элементарно-упрощенная и утилитарная постановка проблемы зла и преступления. Он не хотел этим сказать, что за зло и преступление человек получит наказание в вечной жизни, а за добро – награду. Такого рода примитивный небесный утилитаризм был ему чужд. Достоевский хотел сказать, что всякий человек и его жизнь в том лишь случае имеет безусловное значение и не допускает обращения с ним как со средством для каких-либо идей или интересов, если он – бессмертное существо. Отрицание бессмертия человека для него равносильно отрицанию человека. Или человек – бессмертный дух, имеющий вечную судьбу, или он преходящий эмпирический феномен, пассивный продукт природной и социальной среды. Во втором случае человек не имеет безусловной цены. Не существует зла и преступления. Достоевский защищает бессмертную душу человека. Бессмертная душа, значит также и свободная душа, имеет вечную безусловную цену. Но она также ответственная душа. Признание существования внутреннего зла и ответственности за преступления означает признание подлинного бытия человеческой личности. Зло связано с личным бытием, с человеческой самостью. Но личное бытие есть бессмертное бытие. Разрушение бессмертного личного бытия есть зло. Утверждение бессмертного личного бытия есть добро. Отрицание бессмертия есть отрицание того, что существует добро и зло. Все дозволено, если человек не есть бессмертное и свободное личное бытие. Тогда человек не имеет безусловной цены. Тогда человек не ответствен за зло. В центре нравственного миросозерцания Достоевского стоит признание абсолютного значения всякого человеческого существа. Жизнь и судьба самого последнего из людей имеет абсолютное значение перед лицом вечности. Это – вечная жизнь и вечная судьба. И потому нельзя безнаказанно раздавить ни одного человеческого существа. В каждом человеческом существе нужно чтить образ и подобие Божие. И самое падшее человеческое существо сохраняет образ и подобие Божье. В этом нравственный пафос Достоевского. Не только «дальний» – высшая «идея», не только «необыкновенные» люди, как Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов, имеют безусловное значение, но и «ближний», будь то Мармеладов, Лебядкин, Снигирев или отвратительная старушонка-процентщица, – имеют безусловное значение. Человек, который убивает другого человека, убивает самого себя, отрицает бессмертие и вечность в другом и в себе. Такова моральная диалектика Достоевского, неотразимая и чисто христианская. Не утилитарный страх наказаний должен удерживать от преступлений и убийства, а собственная бессмертная природа человека, которая преступлением и убийством отрицается. Совесть человеческая есть выражение этой бессмертной природы.
У Достоевского было двойственное отношение к страданию. И эта двойственность, не сразу понятная, оправдывает противоположные отзывы о Достоевском как о писателе самом сострадательном и самом жестоком. Творчество Достоевского проникнуто беспредельным состраданием к человеку. Достоевский учит жалости и состраданию. В этом нет ему равного. Никто не был так ранен бесконечным страданием человеческим. Сердце Достоевского вечно сочилось кровью. Ему дано было познать каторгу, жить среди каторжников, и он всю жизнь свою предстательствовал за человека перед Богом. Страдания невинных детей более всего поражали и ранили его совесть. И оправдание слезинки ребенка стало для него возможностью теодицеи. Он до глубины понимал бунт против миропорядка, купленного ценою страшных страданий, слез невинно замученных детей. Он весь исходил от бесконечного сострадания. И устами Алеши он ответил на вопрос Ивана, согласился ли бы он «возвести здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой», если бы «для этого необходимо и неминуемо предстояло замучить всего лишь одно крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачком в грудь, и на неотмщенных слезах его основать это здание», – «нет, не согласился бы». И всю жизнь спрашивал Достоевский, как в сне Мити: «Почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитя, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитя?» Но Достоевский менее всего может быть назван сентиментальным, слащавым и расслабляющим гуманистом. Он проповедовал не только сострадание, но и страдание. Он призывал к страданию и верил в искупительную силу страдания. Человек – ответственное существо. И страдание человека не невинное страдание. Страдание связано со злом. Зло связано со свободой. Поэтому свобода ведет к страданию. Путь свободы есть путь страдания. И всегда есть соблазн избавить человека от страданий, лишив его свободы. Достоевский – апологет свободы. Поэтому он предлагает человеку принять страдание как ее неотвратимые последствия. Жестокость Достоевского связана с этим принятием свободы до конца. К самому Достоевскому применимы слова Великого Инквизитора: «Ты взял все, что было необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям, а потому поступил как бы не любя их вовсе». Это «необычайное, гадательное и неопределенное» связано с иррациональной свободой человека. В страдании видел Достоевский знак высшего достоинства человека, знак свободного существа. Страдание есть последствие зла. Но в страдании сгорает зло. В творениях своих Достоевский проводит человека через чистилище и ад. Он проводит его к преддверию рая. Но рай не раскрывается с такой силой, как ад.
Путь свободы привел человека к путям зла. Путь же зла раздваивает человека. Достоевский – гениальный мастер в изображении раздвоения. Тут у него есть настоящие открытия, которые поражают психологов и психиатров. Великому художнику открывалось больше и открывалось раньше, чем ученым. Беспредельная и пустая свобода, свобода, перешедшая в своеволие, безблагодатная и безбожная свобода не может совершить акта избрания, она тянется в стороны противоположные. Поэтому раздваивается человек, у него образуются два «я», личность раскалывается. Такими раздвоенными, расколотыми людьми являются все герои Достоевского – и Раскольников, и Ставрогин, и Версилов, и Иван Карамазов. Они потеряли цельность личности, они ведут как бы двойную жизнь. В пределе раздвоения должно выделиться и персонифицироваться другое «я» человека, его внутреннее зло, как черт. Этот предел раздвоения с гениальной силой обнаружен Достоевским в кошмаре Ивана Карамазова, в разговоре его с чертом. Иван говорит черту: «Ты – воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых». «Ты – я сам, сам я, только с другой рожей». «Ты не сам по себе, ты – я, ты есть я и более ничего, Ты – дрянь, ты – моя фантазия». Черт у Достоевского не есть уже соблазнительный и прекрасный демон, являвшийся в «красном сиянии, гремя и блистая, с огненными крыльями». Это серый и пошловатый джентльмен с лакейской душой, который жаждет воплотиться в «семипудовую купчиху». Это дух небытия, подстерегающий человека. Последний предел зла – пошлость, ничтожество и небытие. Зло в Иване Карамазове – смердяковское начало. Здравый смысл помешал черту принять Христа и воскликнуть «Осанна». «Эвклидов ум» Ивана Карамазова очень родствен этому здравому смыслу, аргументы «Эвклидова ума» и оказываются аргументами, схожими с аргументами черта. Этот черт есть у всех раздвоенных людей Достоевского, хотя менее выявлен у них, чем у Ивана. Второе «я» раздвоенного человека есть дух небытия, есть гибель бытия их личности. В этом втором «я» раскрывается пустая, бессодержательная свобода, свобода небытия. Идеал «содомский» есть «призрак жизни», соблазн небытия. И в совершенный призрак превращается Свидригайлов, окончательно отдавшийся содомскому идеалу. Его уже нет как личности. Изобличается имманентное ничтожество зла. Спасение от раздвоения лишь во второй благодатной свободе, свободе в Истине, свободе во Христе. Чтобы прекратилось раздвоение и исчез кошмар черта, нужно совершить окончательное избрание, избрание подлинного бытия. И любовь проходит у Достоевского через то же раздвоение. В ней раскрываются те же начала.