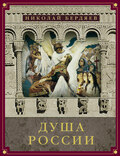Николай Бердяев
Миросозерцание Достоевского
Противоречия, соблазны и грехи русской мессианской идеи вложены в образ Шатова. Но свободен ли вполне сам Достоевский от Шатова? Конечно, он не Шатов, но он любил Шатова и что-то от Шатова было в нем самом. Все герои Достоевского – части его собственной души, моменты его пути. Шатов говорит Ставрогину: «Знаете ли вы, кто теперь во всей земле единственный народ „богоносец“, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова?» «Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения». Это есть возвращение к языческому партикуляризму. Но далее Шатов окончательно превращается в юдаиста с универсальными притязаниями. «Если великий народ не верует, что в нем одном истина, если не верует, что он один способен и призван все воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ… Но Истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога Истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ „богоносец“ – это русский народ». Тогда Ставрогин задает Шатову роковой вопрос: «Веруете вы сами в Бога или нет?» Шатов залепетал в исступлении: «Я верую в Россию, я верую в ее православие… – я верую в тело Христово… я верую, что новое пришествие совершится в России…» «А в Бога? – в Бога?» – настаивает Ставрогин. «Я… я буду веровать в Бога». В этом изумительном диалоге Достоевский сам изобличает ложь религиозного народничества, религиозного народопоклонства, изобличает опасность народнического мессианского сознания. Многие русские люди поверили в народ раньше, чем поверили в Бога, верили в народ более, чем в Бога, и через народ хотят прийти к Богу. Соблазн народопоклонства есть русский соблазн. И в русском сознании религиозное и народное так перемешаны, что трудно их разделить. В русском православии это смешение иногда доходит до отождествления между религиозным и народным. Русский народ верит в русского Христа. Христос – народный Бог, Бог русского крестьянства, с русскими чертами в своем образе. Но это и есть языческий уклон в русском православии. Национальная религиозная замкнутость и исключительность, отчужденность от западного христианства и резко отрицательное к нему отношение, особенно к миру католическому, – все это находится в явном противоречии со вселенским духом христианства. Каждый народ, как и каждая индивидуальность, своеобразно преломляет и выражает христианство. И христианство русского народа должно быть своеобразным христианством, иметь своеобразные и индивидуальные черты. Это нисколько не противоречит вселенскому характеру христианства, так как всеединство христианское есть конкретное, а не абстрактное всеединство. Но в русском христианстве была опасность возобладания народной стихии над универсальным Логосом, женственного начала над мужественным, духа над душой. Эта опасность чувствуется и в самом Достоевском. Часто он проповедует русского, а не всемирного Бога. Нетерпимость Достоевского есть юдаистическая черта в его религиозности. Образ Шатова замечателен тем, что в нем соединяется революционная и «черносотенная» стихия, обнаруживается родство этих двух стихий. Русский революционер-максималист и русский «черносотенец» часто бывают неотличимы, черты сходства между ними поразительны. И одинаково оба соблазняются народопоклонством. Народная стихия мутит их разум, поражает и разлагает их личность. И тот и другой – одержимые. Достоевский это обнаруживает, так как он в самом себе чувствовал и революционное и «черносотенное» начало. Достоевский открывал в русском народе жуткую стихию, страстную и сладострастную, которой не заметили наши писатели-народники. Не случайно в недрах русского народа народилось хлыстовство, явление очень национальное, характерно русское. В нем перемешалось русское православие с исконным русским язычеством, с народным дионисизмом. Русская религиозность, когда она принимает экстатические формы, всегда почти обнаруживает хлыстовский уклон. Народная стихия оказывается сильнее света универсального Логоса.
В русском народе нарушено должное отношение между мужским и женским началом, между духом и душой. И это – источник всех болезней нашего религиозного и национального сознания. С изумительной силой интуитивного проникновения изображена жуткая стихия русского народа в романе Андрея Белого «Серебряный голубь». Россия не Запад, но и не Восток. Она есть великий Востоко-Запад, встреча и взаимодействие восточных и западных начал. В этом сложность и загадочность России.
У Достоевского был пророческий дар. Этот дар оправдан историей. Мы это остро чувствовали, когда поминали сорокалетие со дня смерти Достоевского. Но оправдались главным образом отрицательные, а не положительные пророчества Достоевского о России и о русском народе. «Бесы» – пророческая книга. Это теперь ясно для всех. Но не оправдались многие положительные пророчества Достоевского, которыми переполнен «Дневник писателя». Мучительно читать теперь страницы, написанные о русском Константинополе, о белом царе, о русском народе как исключительно и единственно христианском народе в мире. В одном радикально ошибся Достоевский и оказался плохим пророком. Он думал, что интеллигенция заражена атеизмом и социализмом. Но верил, что народ не примет этого соблазна, останется верен Христовой Истине. Это была аберрация народнического сознания. Религиозное народничество Достоевского ослабило его пророческий дар. Русская революция опровергла русское религиозное народничество, изобличила иллюзии и обманы народнического сознания.
«Народ» изменил христианству, «интеллигенция» же начинает возвращаться к христианству. Самое главное, что нужно окончательно освободиться от всякой классовой точки зрения в религиозной жизни народа. От нее не вполне были свободны славянофилы и Достоевский. Нужно обратиться к личности и искать спасение в ее духовном углублении. И это более согласно с основным направлением духа самого Достоевского. Кончается славянофильство и кончается западничество, невозможно уже русское народничество ни в какой форме. Мы вступаем в новое измерение бытия. И нам необходимо выработать новое, духовное, более мужественное религиозное и национальное сознание. Достоевский бесконечно много дает для выработки этого нового сознания. Но в нем же мы изучаем наши соблазны и грехи. На путях к новой жизни, к духовному возрождению русскому народу предстоит пройти через простое смирение и покаяние, через суровую самодисциплину духа. Тогда только вернется русскому народу его духовная сила. Отказ от мессианского притязания должен укрепить национальное призвание России. Преодоление народничества должно укрепить личность и вернуть ей достоинство ее духовно-культурного призвания.
Глава VIII. Великий Инквизитор. Богочеловек и человекобог
«Легенда о Великом Инквизиторе» – вершина творчества Достоевского, увенчание его идейной диалектики. В ней нужно искать положительное религиозное миросозерцание Достоевского. В ней сходятся все нити и разрешается основная тема, тема о свободе человеческого духа. Она трактуется в Легенде прикровенно. Поразительно, что легенда, представляющая небывалую по силе хвалу Христу, влагается в уста атеиста Ивана Карамазова. Легенда – загадка. Остается не вполне ясным, на чьей стороне рассказывающий Легенду, на чьей стороне сам автор. Многое предоставлено разгадывать человеческой свободе. Но легенда о свободе и должна быть обращена к свободе. Свет возгорается во тьме. В душе бунтующего атеиста Ивана Карамазова слагается хвала Христу. Судьба человека неотвратимо влечет его или к Великому Инквизитору, или к Христу. Необходимо выбирать. Ничего третьего нет. Третье есть лишь переходное состояние, невыявленность последних пределов. Своеволие ведет к утере и отрицанию свободы духа в системе Великого Инквизитора. И свобода может быть лишь обретена во Христе. Изумителен художественный прием, к которому прибегает Достоевский. Христос все время молчит, он остается в тени. Положительная религиозная идея не находит себе выражения в слове. Истина о свободе неизреченна. Выразима легко лишь идея о принуждении. Истина о свободе раскрывается лишь по противоположности идеям Великого Инквизитора, она ярко светит через возражения против нее Великого Инквизитора. Эта прикровенность Христа и Его Истины художественно действует особенно сильно. Аргументирует, убеждает Великий Инквизитор. У него в распоряжении сильная логика, сильная воля, направленная к осуществлению определенного плана. Но безответность Христа, Его кроткое молчание убеждает и заражает сильнее, чем вся сила аргументации Великого Инквизитора.
В Легенде ставятся лицом к лицу и сталкиваются два мировых начала – свобода и принуждение, вера в Смысл жизни и неверие в Смысл, божественная любовь и безбожное сострадание к людям, Христос и антихрист. Достоевский берет идею, враждебную Христу, в чистом виде. Он начертал возвышенный образ Великого Инквизитора. Это – «один из страдальцев, мучимых великою скорбью и любящих человечество». Он – аскет, он свободен от желания низменных материальных благ. Это – человек идеи. У него есть тайна. Тайна эта – неверие в Бога, неверие в Смысл мира, во имя которого стоило бы людям страдать. Потеряв веру, Великий Инквизитор почувствовал, что огромная масса людей не в силах вынести бремени свободы, раскрытой Христом. Путь свободы трудный, страдальческий, трагический путь. Он требует героизма. Он непосилен такому ничтожному, жалкому существу, как человек. Великий Инквизитор не верит в Бога, но он не верит также и в человека. Это ведь две стороны одной и той же веры. Потеряв веру в Бога, нельзя уже верить в человека. Христианство требует не только веры в Бога, но и веры в человека. Христианство есть религия Богочеловечества. Великий Инквизитор прежде всего отрицает идею Богочеловечества, близости и соединенности божеского и человеческого начала в свободе. Человек не выдерживает великого испытания его духовных сил, его духовной свободы, его призванности к высшей жизни. Это испытание его сил было выражением великого уважения к человеку, признанием его высшей духовной природы. От человека многое требуется, потому что он к чему-то великому призван. Но человек отрекается от христианской свободы, от различения между добром и злом. «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» Человек не может вынести страданий своих и чужих, а без страданий невозможна свобода, невозможно познание добра и зла. Перед человеком ставится дилемма – свобода или счастье, благополучие и устроение жизни, свобода со страданием или счастье без свободы. И огромное большинство людей идет вторым путем. Первый путь есть путь немногих избранников. Человек отказывается от великих идей Бога, бессмертия и свободы, и им овладевает ложная, безбожная любовь к людям, ложная сострадательность, жажда всеобщего устроения на земле без Бога. Великий Инквизитор восстал против Бога во имя человека, во имя самого маленького человека, того самого человека, в которого он также не верит, как и в Бога. И это особенно глубоко. Обыкновенно целиком отдаются устроению земного благополучия людей те, которые не верят, что человек имеет своим предназначением высшую, божественную жизнь. Бунтующий и самоограниченный «Эвклидов ум» пытается построить миропорядок лучший, чем созданный Богом. Бог создал миропорядок, полный страданий. Он возложил на человека невыносимое бремя свободы и ответственности. «Эвклидов ум» построит миропорядок, в котором не будет уже таких страданий и ответственности, но не будет и свободы. «Эвклидов ум» неизбежно должен прийти к системе Великого Инквизитора, то есть к созданию муравейника на началах необходимости, к уничтожению свободы духа. Эта тема ставится еще в «Записках из подполья», в «Бесах» у Шигалева и П. Верховенского и разрешается в «Легенде о Великом Инквизиторе». Если мировая жизнь не имеет высшего Смысла, если нет Бога и бессмертия, то остается устроение земного человечества по Шигалеву и Великому Инквизитору. Бунт против Бога неизбежно должен привести к истреблению свободы. Революция, имеющая в своей основе атеизм, неизбежно должна привести к безграничному деспотизму. То же начало лежит в основании католической инквизиции и принудительного социализма, то же неверие в свободу духа, в Бога и человека, в Богочеловека и Богочеловечество. Точка зрения эвдемонизма неизбежно враждебна свободе.
Свобода человеческого духа несовместима со счастьем людей. Свобода – аристократична, она существует для немногих избранников. И Великий Инквизитор обвиняет Христа в том, что, обременив людей непосильной свободой, Он поступил как бы не любя их. Из любви к людям нужно было лишить их свободы. «Вместо того, чтобы овладеть свободою людей, Ты увеличил им ее еще больше. Или Ты забыл, что спокойствие, даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда, Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе». Для счастья людей необходимо успокоить их совесть, то есть отнять от них свободу выбора. Лишь немногие в состоянии вынести бремя свободы и пойти за Тем, который «возжелал свободной любви человека».
Великий Инквизитор печется о тех многих, неисчислимых, как песок морской, которые не могут вынести испытания свободы. Великий Инквизитор говорит, что «человек ищет не столько Бога, сколько чудес». В этих словах сказывается низкое мнение Великого Инквизитора о человеческой природе, неверие в человека. И он продолжает упрекать Христа: «Ты не сошел со креста… потому что не хотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками». «Столь уважая его (человека), Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком многого от него потребовал… Уважая его менее, менее от него и потребовал бы, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл». Великого Инквизитора возмущает аристократизм религии Христа. «Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие. Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров. Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных». И вот Великий Инквизитор становится на защиту слабосильного человечества, во имя любви к людям отнимает у них дар свободы, обременяющий страданиями. «Неужели мы не любим человечество, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу». Великий Инквизитор говорит Христу то, что социалисты обычно говорят христианам: «Свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут никогда быть и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи, десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые». «Во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится с Тобою и победит тебя, и все пойдут за ним… На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня». Атеистический социализм всегда обвиняет христианство в том, что оно не сделало людей счастливыми, не дало им покоя, не накормило их. И атеистический социализм проповедует религию хлеба земного, за которым пойдут миллионы миллионов, против религии хлеба небесного, за которым пойдут лишь немногие. Но христианство потому не осчастливило людей и не накормило их, что оно не признает насилия над свободой человеческого духа, свободой совести, что оно обращено к свободе человеческой и от нее ждет исполнения заветов Христа. Не христианство виновато, если человечество не пожелало исполнить его и изменило ему. Это – вина человека, а не Богочеловека. Для атеистического и материалистического социализма не существует этой трагической проблемы свободы. Он ждет своего осуществления и избавления человечества от принудительной материальной организации жизни. Он хочет побороть свободу, угасить иррациональное начало жизни во имя счастья, сытости и спокойствия людей. Люди «станут свободными, когда откажутся от свободы своей». «Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться… Мы заставим их работать, но в свободные от трудов часы мы устроим их жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, детскими плясками… О, мы разрешим им и грех, ибо они слабы и бессильны». Великий Инквизитор обещает избавить людей «от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ». «Великий Инквизитор ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных». И в оправдание свое он укажет «на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха». Христа же он обвиняет в гордости. Этот мотив у Достоевского повторяется. В «Подростке» говорят о Версилове: «Это – очень гордый человек, а многие из очень гордых людей верят в Бога, особенно несколько презирающие людей. Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтобы не преклониться перед людьми, преклониться перед Богом не так обидно». Вера в Бога – признак горности духа, неверие – признак плоскости духа. Иван Карамазов понимает головокружительную высоту идеи Бога. «То диво, что такая мысль – мысль о необходимости Бога – могла залезть в голову такому дикому и злому животному, каков человек, до того она свята, до того трогательна, до того премудра и до того делает честь человеку». Если существует высшая природа человека, призвание к высшей цели, то существует и Бог, то есть вера в Бога. Если же нет Бога, то нет и высшей природы человека, то остается только социальный муравейник, основанный на принуждении. И Достоевский в Легенде раскрывает картину социальной утопии, которая повторяется у Шигалева и повсюду, где грезит человек о грядущей социальной гармонии.
В трех искушениях, отвергнутых Христом в пустыне, «предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на земле». Искушения отвергнуты Христом во имя свободы человеческого духа. Христос не хотел, чтобы дух человеческий был порабощен хлебом, чудом и царством земным. Великий Инквизитор принимает все три искушения во имя счастья и успокоения людей. Приняв три искушения, он отказывается от свободы. Прежде всего он принимает искушение превращением камней в хлебы. «Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться перед Тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного». Принятие трех искушений и будет окончательным успокоением человека на земле. «Ты исполнил бы все, что ищет человек на земле, то есть: перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный, общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей». Система Великого Инквизитора решает все вопросы о земном устроении людей.
Тайна Великого Инквизитора в том, что он не со Христом, а с ним. «Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна». Дух Великого Инквизитора – дух, подменяющий Христа антихристом, – является в разных обличьях в истории. Католичество в своей системе папской теократии, превращающей церковь в государство, для Достоевского – одно из обличий духа Великого Инквизитора. Тот же дух можно было бы открыть и в византийском православии, и во всяком цезаризме, и во всяком империализме. Но государство, знающее свои границы, никогда не есть выражение духа Великого Инквизитора, не насилует свободы духа. Христианство в своей исторической судьбе постоянно подвергается соблазну отречения от свободы духа. И не было ничего труднее для христианского человечества, как сохранить верность христианской свободе. Поистине нет ничего мучительнее и невыносимее для человека, чем свобода. И человек находит разные способы отречься от свободы, сбросить с себя ее бремя. Это происходит путем не только отречения от христианства, это совершается и внутри самого христианства. Теория авторитета, игравшая такую роль в истории христианства, есть отречение от тайны Христовой свободы, тайны Распятого Бога. Тайна христианской свободы и есть тайна Голгофы, тайна Распятия. Правда, распятая на кресте, никого не насилует, никого не принуждает. Ее можно только свободно обличить и принять. Распятая правда обращена к свободе человеческого духа. Распятый не сошел с креста, как требовали от Него неверующие и требуют и до нашего времени, потому что «жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим». Божественная правда явилась в мир униженной, растерзанной и распятой силами этого мира, и этим утверждена была свобода духа. Божественная правда, поражающая своим могуществом, торжествующая в мире и силой своей берущая души людей, не требовала бы свободы для своего принятия. Поэтому тайна Голгофы и есть тайна свободы. Сын Божий должен был быть распят силами этого мира, чтобы свобода духа человеческого была утверждена. Акт веры есть акт свободы, свободного обличения мира невидимых вещей. Христос, как Сын Божий, сидящий одесную Отца, видим лишь для акта свободной веры. Для верующей свободы духа видно воскресение Распятого во Славе. Для неверующего, пораженного и подавленного миром видимых вещей, видна лишь позорная казнь плотника Иисуса, лишь поражение и гибель того, что мнило себя божественной правдой. В этом скрыта вся тайна христианства. И всякий раз, когда в христианской истории пытались превратить правду распятую, обращенную к свободе духа, в правду авторитарную, насилующую дух, совершалась измена основной тайны христианства. Идея авторитета в религиозной жизни противоположна тайне Голгофы, тайне Распятия, она хочет Распятие превратить в принуждающую силу этого мира. На этом пути церковь всегда принимает обличье государства, церковь принимает меч Кесаря. Церковная организация принимает юридический характер, жизнь церкви подчиняется юридическим принудительным нормам. Церковная догматическая система принимает рациональный характер. Христова истина подчиняется логически принудительным нормам. Но не значит ли это, что хотят, чтобы Христос сошел с креста для того, чтобы уверовали в Него. В безумии креста, в тайне распятой правды нет никакой юридической и логической убедительности и принудительности. Юридизация и рационализация Христовой истины и есть переход с пути свободы на путь принуждения. Достоевский остается верен распятой правде, религии Голгофы, то есть религии свободных. Но историческая судьба христианства такова, что эта вера звучит как новое слово в христианстве. Христианство Достоевского есть новое христианство, хотя он остается верен исконной истине христианства. Достоевский в своем понимании христианской свободы как бы выходит за пределы исторического православия. Для чисто православного сознания он, конечно, более приемлем, чем для сознания католического, но и консервативное православие должна пугать духовная революционность Достоевского, его безмерная свобода духа. Как и все великие гении, Достоевский стоит на вершине. Серединное же религиозное сознание раскрывает себя на плоскости. Соборность религиозного сознания есть качество сознания, соборность ничего общего не имеет с количествами, с коллективностью, она может быть у нескольких более, чем у миллионов. Религиозный гений может более выражать качество соборности, чем народный коллектив в количественном смысле слова. Так всегда бывает. Достоевский был одинок в своем сознании христианской свободы, количество было против него. Но в нем было качество соборности. В своем понимании свободы он родствен Хомякову, который тоже возвышался над официальным православным сознанием. Православие Хомякова и Достоевского отличается от православия и митрополита Филарета, и Феофана Затворника.