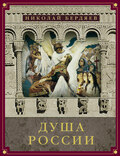Николай Бердяев
Философия свободы
Никогда еще мы не были так близки к окончательному осознанию той религиозной истины, что не только Церковь как живая историческая плоть – мистична, но что мистична и сама история с ее иррациональной плотью, и сама культура – мистична. Позорная проза рационализма – лишь болезнь бытия. Все живет в истории жизнью таинственной, и красота в жизни есть самая подлинная реальность. Мистика и красота – вот где наиреальнейшее, вот где сущее. Уродство эмпирического быта и рассудочность сознания – призраки, небытие, греховный сон. Мы живем в греховном сне рассудочности, сне нашей злой воли, и сны наши постыдно прозаичны и скучны. Мистическая жизнь и есть как бы просыпанье к действительности, к реальности, к существенности. И только в наиреальнейшем есть красота. Новалис назвал свою философию магическим идеализмом. Я бы охотно назвал свою философию магическим реализмом или, точнее, мистическим реализмом: реализмом потому, что она требует от человека, чтобы он проснулся, а не заснул. Но только церковная мистика подлинно реальна. Прекрасный образец церковной мистики и церковной теософии дает Фр. Баадер, которого необходимо оценить как можно выше.
Церковные догматы – мистичны. Ереси и секты – рационалистичны. Вот коренная религиозная истина, закрытая для современного сознания рационализмом церковного быта. В догматах Церкви раскрывается божественный разум, в ересях самоутверждается малый разум человеческий. Вспомним творческий период жизни Церкви, период вселенских соборов, когда вселенская церковная истина побеждала бесчисленные ереси. Арианство, несторианство, монофизитство, монофелитство – все эти разнообразные еретические уклоны носят явную печать рационалистической ограниченности, бессилия малого разума человеческого постигнуть божественные тайны в их полноте. Рационалистические ереси не в силах постигнуть тайны соединения, тайны преосуществления, тайны полноты, для них все остается разъединенным, ничто не преображается, для них существуют лишь осколки истины. Давно уже было замечено, что во всех ересях есть доля истины, но дробная, оторванная от полноты, утвержденная в исключительности и односторонности. Только вселенское церковное сознание утверждает полноту, цельность истины, только оно все соединяет и претворяет. Для еретического, отщепенского, рационалистического сознания непостижима тайна Троичности, тайна единосущности и равнодостойности Отца и Сына, тайна боговоплощения и соединения природы человеческой и божеской. Это сознание, всегда покорное разуму малому и несогласное совершить мистический акт самоотречения, которым стяжается разум большой, утверждает одну сторону истины и упускает другую ее сторону, оставляет раздельным то, в соединении чего вся тайна Христова, не постигает претворения одной природы в другую. Еретический рационализм признает Христа или только Богом, или только человеком, но не постигает тайны Богочеловека, тайны совершенного соединения природы божеской с природой человеческой; он признает в Христе одну лишь волю и не постигает совершенного соединения в Христе двух воль, претворения воли человеческой в волю Бога; он готов признать Троичность Божества, но так, чтобы не нарушить закона тождества и противоречия, так, что «один» и «три» в разное время о разном говорят. Он не постигает той тайны Троичности, о которой в одно и то же время говорят «один» и «три». Еретическому, рационалистическому сознанию решительно не дается тайна богочеловечности, тайна соединения и претворения, т. е. самая сущность христианства. Для этого сознания Бог и человек, божественная и человеческая воля в Христе, дух и плоть, небо и земля так и остаются несоединенными и несоединимыми, так как чудо претворения и преосуществления малому разуму недоступны. Только вселенское церковное сознание постигает тайны веры Христовой мистически, а не рационалистически, согласно на безумие, чтобы стяжать себе мудрость божественную. Ереси более рационалистичны, потому что боятся безумия во Христе, слишком благоразумны. Мистическое восприятие дается лишь безумию, отречению. Только безумные становятся мудрыми, постигают тайны. Те мудрые, которые боятся безумия и отречения, не достигают вершин знания. В современной «теософии» есть то же рационалистическое бессилие, что и в старых ересях, в старом гностицизме. И для «теософии» нет веры, нет чуда, нет соединения и претворения, для нее все разумно и натуралистично, все раздельно и неполно. Схоластическое богословие основательно заставило забыть опытное происхождение всех догматов. С трудом можно напомнить современным людям, что догматы – видения, встречи, что догматы раскрываются лишь в мистическом озарении, что через них дан выход в мир иной. Рационалисты-церковники и рационалисты – враги Церкви одинаково сделали свое дело. Догматы Христовы – непостижимы, сверхразумны, и отречение, отвержение соблазнов рациональных есть условие религиозного гнозиса.
Церковь как хранительница полноты истины тем отличается от ересей и сект, что она требует преображения всего мира, всей плоти мира, ждет преображения вселенского. Поэтому Церковь берет бремя мировой истории, не считает возможным его сбросить. Мистика еретическая и сектантская довольствуется преображением 1/10 мира, а 9/10 согласна оставить на погибель. Поэтому она сбрасывает бремя мировой истории, выходит из истории. Успех сектантско-еретической мистики, вершины ее экстазов достигаются тем, что она отсекает себя от полноты вселенского бытия, 9/10 этого бытия превращает в небытие, сбрасывает с себя бремя заботы о судьбе вселенной, а с 1/10 справляется уже легче. Напр., наше хлыстовство – очень замечательная мистическая секта, не хочет разделить судьбы вселенной, не берет на себя бремени истории и вселенского достижения преображения, оно достигает преображения в уголку, для маленького кусочка. У мистического сектантства всегда есть какая-то легкость сбрасывания с себя бремени бытия вселенского, выход из круговой поруки за зло, из соборности. В самых мистических сектах и ересях можно открыть примесь рационалистической ограниченности, которая точно кара сопровождает всякое отсечение и самоутверждение.
Э. Сведенборг был одним из величайших мистиков. Он был мистиком христианским. Но мистика Сведенборга была внецерковная, она выросла на почве протестантизма. И вот сознание великого ясновидца, подлинного мистика оказывается пораженным рационалистической ограниченностью. Сведенборг не в силах постигнуть тайну Троичности Божества, Троичность представляется ему трехбожием; он все говорит, что Христос есть единственный Бог, что Бог – человек, что Троичность находится внутри Христа, как Его свойство. Рационалистическое отношение Сведенборга к тайне Троичности есть результат слабости его церковного сознания. Также рационалистично отношение Сведенборга к святым, иконам и мн. др. Другой мистик протестантского типа Юнг Штиллинг в своем толковании на Апокалипсис впадает в смешной провинциализм и видит Жену, облеченную в солнце, лишь в богемо-моравской церкви. Мистика всегда рационалистически ограниченна, если она нецерковна. Только церковное сознание неподвластно малому разуму, церковное сознание и есть Божественный Разум. Все нецерковные мистические движения, разобщенные с вселенским сознанием и вселенским смыслом истории, отличаются бесплодием, все они чахнут и, в лучшем случае, имеют значение симптоматическое, подготовительное, переходное или исключительно индивидуальное. Даже мистик такой силы и таких прозрений, как Сведенборг, оставил сравнительно мало творческих следов в истории. В России в начале XIX века было довольно сильное мистическое движение, много было мистических кружков, была обширная мистическая литература, переводная и оригинальная. С трудом можно найти следы этой мистики в русской литературе и русском самосознании XIX века. Образовалась ли у нас мистическая традиция и преемственность? Этой традиции и преемственности нет, мистическая нить порвалась. Это должно было бы быть предостережением для русского мистического движения начала XX века. Мы ведь никогда не вспоминаем мистиков Александровской эпохи. Как бы и нас не забыли потомки. Чем объяснить неудачу русской мистики начала XIX века? Объяснить это можно только отсутствием в мистике той эпохи церковных и национальных корней. В мистике эпохи Александра I-го было слишком много заносного, переводного, не воспринятого душою народной, не связанного с судьбой народной. Только церковное сознание связывает мистику индивидуальную с исторической судьбой народа. Мистика же того времени была лишена церковного сознания. И современная русская мистика слишком часто лишена церковных и национальных корней, она только разрыхляет почву для загорающегося нового религиозного сознания.
То же роковое бесплодие грозит и мистике оккультической – этой моде, а может быть и силе, завтрашнего дня. Вопрос об оккультизме очень сложен и имеет много сторон, которых здесь касаться я не могу. Но оккультическая мистика, поскольку она отсечена от церковного сознания и не связана с сознанием национальным, исторически бесплодна и легко вырождается в шарлатанство. Оккультические кружки, оторванные от правды Вселенской Церкви, не служащие исторической судьбе народов, варящиеся в собственном соку, мельчают и вырождаются. Существует дурной психологический тип оккультиста, как и тип сектанта. Для типа этого характерно отсутствие духовного смирения и неспособность к универсализму, определяющему всему свое место в мировой иерархии. В этом типе психологически неприятно – признание себя центром вселенной, а в отношении к другим людям – метод лести и взвинчивания, которым собираются сливки человечества. Оккультически-сектантский тип потому с таким трудом принимает вселенски-церковное сознание, что чувствует себя генералом в искусственно приподнятой атмосфере и не может совершить тот подвиг самоотречения, после которого из генерала превращается в солдата или простого офицера в реальной жизни церкви. Тут спор не догматический, а психологический и словами почти невыразимый. Нельзя отрицать сферы оккультного, но оккультные знания и оккультная практика могут служить разным богам, могут быть бытием, а могут оказаться и небытием. Оккультизм обычно вырастает не на отношении к Божеству, а на отношении к людям и к естеству. Только вселенское церковное сознание обращает все на службу Единому Богу, Господу нашему, и все связывает с судьбами историческими. Спасти от бесплодия и вырождения современную мистику можно только радикальным осознанием той истины, что мистика религиозная и церковная выше и полнее мистики нерелигиозной и нецерковной. Церковное сознание всегда полнее сознания сектантского и еретического, в Церкви всегда больше, а не меньше, чем в сектантско-еретической мистике. В Церкви заложена вся полнота бытия, в сознании церковном заключены все частичные истины сект и ересей, оккультных школ и теософических учений. В Церкви – полнота гнозиса. Безумно думать, что какая-нибудь оккультная школа или мистическая секта могут быть больше Церкви, знать больше, чем Церковь знает. Вне церковного сознания всегда остается власть эволюционного натурализма, не ведающего свободы, хотя бы и расширенного до других планетных миров. Всякая оккультная школа направлена лишь на частное, преследует лишь частные цели, подобно отдельным монашеским орденам или отдельным областям знания; когда же мнит себя всем, т. е. Церковью, тогда впадает в демонический рационализм и вырождается в шарлатанизм. В оккультизме нет духа пророческого. Только Церковь – все, только в Церкви – все. Но Церковь – душа мира, земля, соединившаяся с Христом-Логосом. Церковь не есть учреждение, не есть быт, не есть духовенство, не есть внешняя церковность. Только мистическое сознание воспринимает Церковь, только в Боге постигается Бог.
Наше будущее зависит от усиления мистики церковной, связанной с историей, с мировым процессом. Творческое значение имеет ныне лишь та мистика, которая связана с временами и сроками всемирной истории, воспринимает смысл истории и предчувствует конец истории. Все значение мистики нашей эпохи в том, что она не может ограничиться индивидуальным, субъективным Апокалипсисом, в ней неизбежен Апокалипсис объективный, всемирно-исторический. Все влечет к пределам, к окончательным выявлениям, к концу. Наш национальный мистицизм XIX века, мистицизм Чаадаева, некоторых славянофилов, Достоевского, Вл. Соловьева и др., тем и ценен, что в нем так остро ставится проблема религиозного смысла истории, проблема Востока и Запада, проблема национального мессианизма, т. е. в пределе своем проблема апокалиптическая. Этой великой традиции и мы должны держаться, как бы далеко ни ушли от своих предшественников. Те, которые прошли через Достоевского, не могут и не должны вернуться к мистике субъективной и индивидуалистической, к «чистой», отвлеченной и неизреченной мистике переживаний, всегда лишенной корней церковных и национальных. Катастрофический, полный мировой тревоги и мировых предчувствий дух Достоевского и есть наш национальный мистический дух. Дух этот влечет к апокалиптическому сознанию. Всякое отступление в постановке проблемы Востока и Запада как проблемы мистической есть шаг назад. Таким шагом назад является субъективная мистика переживаний, мистика благополучная, не катастрофическая, не ведающая ответственности за исторические судьбы народа, человечества и мира. Но катастрофические, апокалиптические переживания могут быть мужественными, активными, а могут быть женственными, пассивными. У нас слишком преобладает кошмарный медиумизм, пропускающий через себя все дуновения апокалиптические и все силы магические. Недостает нам духа рыцарского.
Отвлеченная, чистая мистика переживаний есть лишь обратная сторона рационализма и позитивизма, недаром она разрешена рациональным, критическим сознанием. Подлинная мистика начинается лишь тогда, когда различают реальности и реальные существа, когда наступают радостные встречи, узнают и называют по имени. Переживания, иррациональные и хаотические, – не мистика еще, а то мистику легче всего было бы встретить на низших ступенях растительного и животного царства. Мистика есть просветление, в мистике всегда есть озарение, блеск молнии, а не тьма и хаос. Так говорят все мистики о своем мистическом опыте, и с их признаниями мы обязаны считаться более, чем с измышлениями гносеологов. В мистическом опыте переживания связаны с центрами объективного бытия, с наиреальнейшим. Мистика – конкретна, а не отвлеченна. В отвлеченной мистике переживаний нет ни реальности мира, ни реальности личности. И душа мира, и личность, как и всякая реальность, – продукты рационализации и объективации. Рационализм и натурализм продолжают господствовать. Лучше было бы совсем выбросить слово «переживание», когда речь идет о мистике, лучше сообразоваться с признаниями мистиков, с историей мистики. Слишком часто забывают, что мистика есть дисциплина, что путь к мистическому экстазу не есть путь хаоса и тьмы, а просветления и оформления. Мистика предполагает укрепление, а не расслабление воли, усиление, а не ослабление света. Так учили все великие мистики. Мистика ни в каком смысле не есть декаданс, она всегда – возрастание.
Я говорил уже, что оккультизм в преобладающей и легко распространяющейся своей форме есть интеллигентское сектантство, интеллигентский гностицизм и потому разделяет судьбу сектантства и гностицизма. Оккультное есть во всякой религии. Но упаси нас Боже смешать тайну с секретом и конспирацией, божественное с человеческим. В «теософии» оккультизм становится популярным, экзотерическим. И нужно сказать, что теософическая литература в большинстве случаев поразительно неинтересна и скучна, роковая печать бездарности лежит на всех почти теософических писателях. Никакой мистики в теософии нет, в теософических схемах торжествует особая форма натуралистического эволюционизма. В основу современной «теософии» положена идея перевоплощения, что обнаруживает уже сродство с Индией и вражду к христианству. В свете восточной идеи перевоплощения душ нельзя постигнуть тайну личности и тайну плоти. Целостность личности рассекается, разрывается учением о перевоплощении душ, плоть человека лишается своего значения. Замечательнейший современный теософ-оккультист Р. Штейнер [42] разлагает человека на ряд скорлуп, наложенных одна на другую, и выводит все эти скорлупы из эволюции иных планетных миров. Тайна личности единой и неповторимой в мире, личности цельной, в которой ничто не может быть разорвано, тонет в натуралистической эволюции вселенной, выраженной в терминах планетарной теософии. Все теософическое учение о переселении душ есть последовательная форма эволюционизма, и притом эволюционизма натуралистического, не ведающего преодоления порядка природы чудом и благодатью. Судьба личности в христианской философии и в христианской теософии не может быть постигнута эволюционно и натуралистично, судьба эта сверхразумна, сверхприродна, катастрофична. Христианское учение о воскресении к вечной жизни несоединимо с теософическим учением о перевоплощении. Только идея воскресения утверждает личность в ее цельности и полноте, не разрушает тайну личности эволюционно-натуралистически. Тайна личности и тайна плоти хранится лишь церковной теософией, для теософии нецерковной нет ни личности, ни плоти; она сочетает дурной спиритуализм с дурным натурализмом. Для этой теософии не существует также свободы в ее изначальности и иррациональности. Какая же может быть свобода в эволюционно-натуралистических схемах теософии? Нет свободы, нет греха, нет зла и нет исхода. Теософическая вина, как она выражена в учении о карме, есть лишь особое выражение для неотвратимого закона причинности. Теософия не видит той вины, которая связана с бездонной тайной свободы, свободы сверхприродной, не вмещающейся ни в какую эволюцию, хотя бы и эволюцию иных миров. Только церковная теософия ведает свободу, не поддающуюся никакой рационализации. Даже старые гностики не в силах были совладать с тайной свободы и вынуждены были ее отвергнуть. Современные же гностики-теософы явно приспособляют свое учение к рационализму, натурализму и позитивизму, поэтому они отвергают веру и чудо, не хотят отречения и жертвы. Философия свободы есть философия чуда, свобода – чудесна, она не натуральна, она не есть результат развития. Мертвенность и бесплодие современной теософии связаны с этим бессилием проникнуть в тайну личности и свободы. Теософия находится во власти дурной множественности.[43] Для нее Христос – один из многих, наше воплощение в этой жизни – одно из многих. Во всем – множественность, повторяемость, отвлеченность, столь характерные для мышления Индии. Но тайне личности противно допущение во всем множественности и повторяемости, во всем дурной бесконечности. Христос – Единственный и Неповторимый, и единственность и неповторимость Его личности есть основа единственности и неповторяемости всякой личности. Личное самосознание и есть христианское самосознание, есть сознание единственности и неповторяемости своей личности в неразрывной связи с единственностью и неповторяемостью Христа. Если б не было Христа, то царил бы порядок природы, в котором все множественно и повторяемо, в котором личности нет. Поскольку теософия не знает Христа, она не знает личности, она во власти дурной множественности природного порядка, для нее личность растворена в натуральной эволюции перевоплощений. Теософия может оказаться опасной реакцией восточной стихии безличности против христианского откровения о личности. Личность не может перевоплощаться, как не может перевоплощаться Христос, Единственный и Неповторимый. И потому порядок природы может быть побежден и преображен. В теософии так же не побеждается порядок природной необходимости, как и в обыкновенном натуралистическом рационализме, в теософии натурализм только расширяется до бесконечности, захватывает новые области. Натурализм может принять и спиритуалистическую форму: можно учить об естественной эволюции духов, как учат об естественной эволюции материи. Спиритизм, например, есть последовательный натурализм и рационализм, хотя он и пугает официальных позитивистов. Даже магия в существе своем натуралистична, не выходит еще из круговорота естества. Искание философского камня или жизненного эликсира – последовательный натурализм. Магия целиком пребывает в заколдованности вещества и хочет расколдовать вещество путем своекорыстного знания, дающего власть над тайнами естества. В магии нет свободы, в ней – ложное, своекорыстное направление воли, жажда власти без просветления, без рождения к новой жизни. Эта темная магия есть и в позитивной науке, поскольку она своекорыстно хочет овладеть природой путем человекобожества, путем змииным. Ведь и наука в пределе своем хочет найти философский камень и жизненный эликсир, и многие элементы магии и алхимии будут научно возрождены. Поскольку теософия требует расширения натурализма, введения в сферу нашего знания новых областей, исследования новых сил, новых явлений (напр., телепатических, медиумических, ясновидения и пр.), она может быть полезна. Полезна она еще тем, что повышает интерес к древним религиям. Но религиозные и мистические притязания теософии жалки и ничтожны. Пусть теософия ограничится более скромной ролью борца за расширение знания и опыта. В этом деле может сыграть положительную роль не только теософия, но и возрождение интереса к магии. Но и магия, и теософия не могут быть религией и должны смириться перед Церковью. Только в этом случае теософия может сыграть положительную роль в борьбе с ограниченностью позитивизма. Наступают времена, когда натуралистический позитивизм превращается в темную магию, когда он сковывает человека темной властью естества. Ему должно противопоставить магию божественную, которая – не магия уже, а мистика.
Свобода– вот исходное в церковной мистике. Церковная мистика есть прежде всего мистика свободы, как церковная философия есть философия свободы. Свобода есть не только цель и конец мистической жизни, свобода есть также основа и начало этой жизни. Жить мистической жизнью и значит жить жизнью свободной, значит прорвать цепь природной необходимости и рабства. Тайна свободы – вот пробный камень истинной мистики и истинной философии. Где нет свободы, где свобода рационализируется, где свобода тонет в пантеистическом океане, где свобода истолковывается в духе теософической эволюции, где свобода заколдована в магии естества, там нет подлинной мистики, там философия сбилась с пути. Свобода – таинственна, изначальна, исходна, бездонна, безосновательна, иррациональна. С свободой связана тайна греха и тайна искупления. Христос – свобода, ибо Сын делает нас свободными. Свобода лежит в основе истинно христианской теософии, и нет свободы в теософии гностической, сектантской. Гнозис люциферианский, змииный, не знает свободы и не учит свободе. В современной «теософии», как и в прежнем люциферианском гнозисе, царит не свобода, а магическая заколдованность бытия и медиумизм человека. Но магическая заколдованность есть одна из форм натуралистического детерминизма, она оставляет человека в пределах рокового естества, ей неведома благодатная свобода. Если человек – медиум, через который проходят неотвратимые магические силы, которые можно расколдовать лишь путем особого знания, то он – лишь пассивная частица магического естества, он не свободен, не активен, не образ и подобие Бога. Магические силы действительно кольцом окружают человека, и само понимание естества должно быть неизбежно расширено в сторону магического его понимания. Но магии естества противостоит не медиумичность человека, а его благодатная свобода. Для теософов и некоторых оккультистов человек слишком часто представляется исключительно медиумом, пронизываемым магическими силами и таинственными влияниями. Но благодатная свобода разрывает магический круг и противится всякой заколдованности. С этим бессилием постигнуть тайну свободы и ее сделать основой жизни связана неспособность постигнуть тайну личности. Личность, как и свобода, разрушается магией естества и медиумизмом человека. Личность и свобода – одно. С тем же связана и невозможность постигнуть тайну мистического реализма, хранящегося в Церкви. Гораздо легче принять мистический символизм, мистический символизм рациональнее мистического реализма. Мистический реализм – безумен и требует отречения. Гораздо легче, рациональнее принять символизм таинств, чем реализм таинств. Но ведь смысл всякого символизма (напр., символизма в искусстве) в том, что он есть путь, переход к реализму, который есть последняя глубь.
А с другой стороны подстерегает опасность той рационализации Церкви в христианском быту и христианском богословии, которая делает христианство смертельно скучным, пресным и уродливым. И ждем мистического церковного возрождения, которое одинаково победит пресность и рационализма quasi-церковного, и рационализма quasi-мистического, и рационализма открытого, и с ними дьявольскую магию скуки и уродливости жизни. Скука – дьявольская магия. Этот род магии страшнее всякого другого, и горе тому, кто стал медиумом, пассивным проводником магических сил дьявольской скуки. Дурная множественность, плохая бесконечность всегда кончается дьявольской скукой. Дьявольской скукой кончается всякая ложь, всякий ложный путь. Только истина, как путь и жизнь, побеждает магию скуки. В быту же христианском, в самой церковной действительности слишком много этой скуки, слишком охвачено все магией дьявольской. Только свобода не скучна – в ней магия божественная.
Скуки нет там, где есть любовь. И всякое подлинное мистическое мирочувствие связано с Эросом, мистическое восприятие мира есть в высшем смысле этого слова эротическое восприятие. С тайной пола связана тайна всякого соединения. Величайшие мистики тайну пола ставили в центре и чуяли жуть пола. С полом связан и всякий разрыв в мире и всякое воссоединение – тайна полноты. В андрогинизме видели великие мистики Я. Бёме и Фр. Баадер разгадку всякого бытия, всякой полноты и совершенства, образа и подобия Бога. Тому же учил и Платон, не просветленный еще светом Христовым. Но современная мистика имеет уклон к дурному, ложному женоподобию, и в женоподобии этом чувствуется утерянная девственность. Вечная женственность есть девственность Марии, и она соединяется с вечной мужественностью, с мужественностью Логоса. И вся земля, вся матерь-земля женственна, но женственность ее двойственна, как и всякая женственная природа, Земля – Ева и Мария. Только в мистическом браке раскрывается тайна соединения Логоса с женственной душой мира, с землей. Есть святость любви, которой побеждается дурная природа, природа, вечно плененная дурной множественностью, плохой бесконечностью. В святости любви раскрывается полнота личности, тайна андрогинизма, образа и подобия Бога. Уже Баадер предостерегает от смешения тайны андрогинизма с извращением гермафродитизма, со всякой ложной подменой мужественного и женственного. Природный порядок, лежащий во зле, побежден будет новой, святой любовью, мистическим браком. Семья лежит еще в природном порядке, находится еще во власти дурной множественности. Семья – еще языческая, как и государство, хотя ее права на существование этим не отрицаются. Но на вершинах христианской мистики раскрывается последняя тайна, неизреченная и сокровенная тайна соединения мужественного и женственного. Не раскрывается эта тайна тем, кто находится во власти дурной женственности и дурной мужественности, для кого тут нет тайны, все тут просто, и для тех, кто не стучится. Даже в культе Мадонны, священном в своей основе, был дурной уклон, уклон к религии женственного божества. Нет Божества, кроме Бога Единого и Троичного, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И ложь есть во всяком перенесении на абсолютную жизнь Божества категорий половой эротики, имеющей значение лишь в отношении к миру, к творению.
Ожидание нового завершающего откровения – последнее слово церковной, апокалиптической мистики. Откровение Бога в мире еще не закончилось, тайна Божьего творения еще не раскрывалась окончательно. Ожидание Третьего Царства, Царства Духа Святого, по существу своему церковно и вне Церкви не может иметь никакого смысла. Ожидание нового откровения покоится на христианских пророчествах, церковью принятых и хранимых. Пророческая мистика Апокалипсиса – мистика церковная. Пророчески-апокалиптическая мистика ничего не может значить для субъективно-индивидуалистической мистики переживаний, и так же мало может быть она связана с натуралистически-рационалистической мистикой теософии и гностицизма. Вне Церкви нет откровения, не может быть и нового, чаемого откровения. Только Церковь есть откровение божественного бытия в мире. Только Церковь есть процесс развития. Кто возьмет на себя смелость сказать, что процесс закончился, что развитие прекратилось? В вере христианской есть не только священство, но и пророчество. История не имела бы религиозного, церковного смысла, если б она не закончилась полнотой откровения, откровения тайны творения Божьего, если б исторический процесс не перешел в процесс сверхисторический, в котором окончательно будет снята противоположность между земным и небесным, человечеством и Божеством. С религиозным смыслом истории неразрывно связаны хилиастические упования. В хилиазме (не еврейском, а подлинно христианском) скрыта все та же основная тайна христианства – тайна соединения и претворения одного мира в другой. Божье творение не закончилось, боготворческий процесс продолжается. Но Бог творит уже вместе с человечеством, богочеловеческим путем творится новый мир. Искупление греха и спасение от зла не есть простой возврат к райскому, первобытному состоянию, это – творчество нового Космоса. В развитии творится небывалое. Христианское искупление и спасение – революционно, а не реакционно. Это сознание ведет нас к проблеме теургии.
Официальная церковность боится самого слова теургия как наследия язычества. В теургии видят родство чуть ли не с дурной магией. Но тогда слишком многое нужно будет отбросить как наследие язычества. Сама церковь получила в наследие от язычества свою основу – душу мира, землю. Проблема теургии есть проблема творчества, но не всякого творчества, а того лишь, в котором человек творит вместе с Богом, творчества религиозного. В истинной теургии творится не Бог и боги, как того хочет религия человекобожества; теургия есть творчество с Богом, творчество божественного в мире, продолжение творения Бога. В творчестве теургическом нисходит Бог и сам участвует в творческом процессе, в творчестве теургическом человек зовет Бога себе на помощь, а Бог обращается к человеку как к сотруднику в завершении дела творения. В злой, темной теургии совершается соединение человека с дьяволом и творится лжебытие, небытие, но это уже не теургия. Теургия есть продолжение дела Божьего творения, Божье творение не закончено, новый Космос, предвечно пребывающий, в идее Бога еще не достигнут. Теургический, творческий процесс в жизни человечества и есть путь к новому Космосу, к новой земле и новому небу. Проблема нового религиозного сознания и есть прежде всего проблема творчества, проблема теургии. Не в отношении христианства к плоти и земле мука нового и все же христианского религиозного сознания, а в отношении христианства к творчеству, к творческому вдохновению, к теургии. В творчестве, в творческом экстазе, в творческом вдохновении дан особый религиозный опыт, опыт, отличный от типического опыта христианской аскетики, даже от опыта молитвы. Не только аскетический подвиг, не только молитва, но и творческий экстаз есть богообщение, в творческом экстазе Бог сходит к человеку и участвует в делах его. Подлинное творчество есть религиозное делание, творчество – божественно, свято. Все великие творцы в истории человечества – такие же участники в Божьем деле, в творчестве нового Космоса, как и святые и подвижники. Гений и талант – дары священные, от Бога данные, значение их религиозное. Дело Божье в мире осуществляется не только святыми, но и гениями.[44] Творчество гения – подвиг, в нем есть свой аскетизм, своя святость. Всякое истинное творчество, творчество ли поэта, философа или иного творца, предполагает аскетизм, освобождение от «мира».