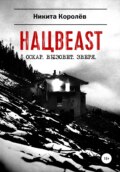Никита Королёв
Дом презрения
Не оборачивайся
Его тело было найдено в одной из квартир сталинского дома на Кутузовском проспекте, прямо возле Делового центра – из мансардных окон погибшего виднеются стеклянные громады Москвы-Сити. Нашли, увы, уже по запаху. Тело увезли в морг на вскрытие, анализы и экспертизы, но все было понятно и без них – у несчастного из уголка глаза торчал карандаш, воткнутый до самого ластика. Пока судмедэксперты разбирались, как он там оказался, мы искали ответ на вопрос почему.
Мимика покойников – это, конечно, отдельная причина для психического расстройства, но все-таки у этого бедолаги было особенное лицо. Тупое, неосмысленное и какое-то раздражающе безмятежное. Несмотря на то, что причиной смерти уже предварительно назвали самоубийство, я убежден в том, что он не хотел убивать себя этим карандашом – для самоубийства есть куда более действенные средства. Кажется, он хотел сделать себе лоботомию в домашних условиях.
Создание психологических портретов, конечно, – не мой профиль, но кое-какие соображения на этот счет у меня есть. Как бы высоко он ни забирался в материальном отношении, что-то неотступно шло за ним. Какой бы роскошью он ни окружал себя, каким бы красивым ни был вид на устремленную ввысь Москву из его окна, сколько бы нулей ни прилеплялось к цифрам на его банковском счете, в конце остались лишь крошки на ковре, пыль на полках и грязь по всей квартире. Он хотел от чего-то избавиться, выковырять из своей головы.
В ходе следствия в его квартире был проведен обыск. Помимо многомесячных отложений коробок из-под пиццы и пустых банок с прожженным дном, в шкафах нашли рукописи. Их поместили в наш старый добрый архив, куда доступ есть лишь у единиц, и засекретили. Однако вскоре эти тексты кто-то отцифровал и слил в интернет, где они блуждали по пабликам со страшными историями, и даже один ютубер, зарабатывающий лагерной (конечно, в детском значении) мистикой, озвучил один из них в своей регулярной рубрике «Истории у костра». На этой почве нас хорошенько встряхнули – благо, никого не уволили. Зато вот рассказы, что называется, ушли в народ: даже небольшие издательства интересовались, но на автора по понятным причинам выйти не смогли.
По правде говоря, виновником того слива был я. Но поймите меня правильно, я делал это не из корыстных побуждений. Да и какая здесь может быть корысть, когда литература нынче – удел либо бедствующих интеллигентов, либо яхтствующих богачей? Невоплощенный писатель внутри меня увидел в этих заляпанных не то вином, не то кровью рукописях настоящую литературу, истинное искусство, рожденное в неутолимых страданиях, а изъеденное ими тело, что мы нашли на мансарде в сталинке промозглым октябрьским вечером, – тому доказательство. Возможно, за годы службы я уверовал в то, что другие в нашем отделе насмешливо называют «страшилками», но все же я убежден, что в одном из рассказов я нашел начало карандаша, отчаянно пытавшегося нащупать воспоминания.
«Была летняя августовская пора. По асфальтированной дороге, то вьющейся меж русых полей, то прячущейся в мохнатых хвойных перелесках, гоняли небольшие косяки пуха. На ней то и дело попадались размозженные тела лесных обитателей, и если вчера раздавленный ежик походил на кокос, у которого отсекли макушку, то сегодня он уже представляет из себя кровавый приплюснутый силуэт со слегка приподнятыми от земли иголками. Даже смерть живет своей жизнью. На дороге встретилась даже бедняжка-лиса, которая теперь напоминала новогоднюю мишуру, растрепанную и запыленную. Небесную гладь прикрывали реденькие пушистые облачка, как клочки спутанной шерсти едва прикрывают тело облезлого кота. Одно небольшое однотипное село отстранялось от другого не менее, чем двадцатью километрами этой узкой змеевидной дороги, по которой в этот момент ехал Гришка Растрепин на своем велосипеде. Гришка был пятнадцатилетним щупленьким мальчиком, который более всего напоминал вешалку-плечики, которую обратили в человечка, дочертив недостающие части тела. И жил он в селе Кризалино. Его отец работал на молочной ферме, раскинувшейся неподалеку от их родного села, а мать была кухаркой в единственной на все село столовой, где вполне могло уместиться все здешнее население. Гришка был очень покладистым и неконфликтным мальчиком, обучался дома, да и то было вовсе не обязательно – после смерти отца коровы сами себя не подоят. И сейчас он только выехал из густого перелеска, и перед ним распростерлось бескрайнее поле, золотистый покров колосьев, травы и растений, треплемый слабыми порывами ветра. Как все послушные мальчики, Гришка ехал по ходу движения автомобилей. Однако было ему неспокойно. На всем пути его не покидало ощущение щекотки в спине, а промчавшаяся в опасной близости машина каждый раз встряхивала Гришку, и так как ему очень нравилось рассекать на велосипеде в наушниках, приходилось то и дело оборачиваться, чтобы видеть приближающийся сзади транспорт. Он даже с переменным успехом приноровился держать прямо руль, поворачивая голову назад. К этому его принуждал страх за свою жизнь и за свой сиреневый велосипед, недавно подаренный отцом на день рождения. На сидушке до сих пор шуршал полиэтиленовый чехол – Гришка не хотел раньше времени прощаться с первозданной красотой своего подарка. И вот на середине открытого отрезка дороги Гришка понял, что ему решительно надоело крутить шеей: она затекла и начала побаливать. К тому же его внимание привлекла появившаяся на горизонте машина. Изначально бывшая сплошным солнечным сверканием, она по мере приближения приобретала цвет и очертания. «Темно-синий «форд фокус» – заключил Гришка. Он так увлекся рассмотрением «форда», что пропустил плановый осмотр тыла, а когда обернулся, в аварийной близости блеснул серебристый корпус ехавшей сзади машины. В голове у Гришки застучало, сердце забарабанило прямо в горле, руки словно пронзило электрическим током. Все его тело накренилось к центру дороги, и велосипед последовал за ним. Серебристая машина стала смещаться на встречную полосу, но объезжать велосипедиста было ошибкой.
Лобовое столкновение с «фордом» – и под аккомпанемент визжащих тормозов, скрежета гнущегося метала и стеклянного звона две машины на мгновение слились воедино, приподнявшись на передних колесах в жутком приветствии, а затем с грохотом рухнули на асфальт. Гришка простоял с минуту, не смея шелохнуться даже взглядом. Быстро растущее и темнеющее пятно на его бежевых шортах, казалось, было единственным подтверждением того, что время не остановилось. Еле переставляя ноги, шаркая ими по асфальту, словно гравитация в этот момент ужесточилась сразу в несколько раз, Гриша стал приближаться к этой престранной экспозиции. Губы его тряслись, а по всему черепу растеклась такая легкость, которая была тяжелее и мучительнее самого сильного спазма мигрени, которую щупленький и всегда немного бледный Гриша испытывал регулярно. Наконец он поравнялся с водительским местом «форда». На вылетевшей из руля подушке безопасности покоилась голова водителя на странно вытянутой шее. Гришка было подумал, что водитель просто-напросто потерял сознание, но на подушку начало что-то мерно накрапывать. Однако эта была не кровь. Взглянув на лужицу бледно-серого цвета, образовавшуюся на подушке, Гришка предположил, что у водителя просто насморк, однако были это и не сопли. Это был мозг, взболтанный до состояния молочного коктейля и теперь стекавший склизкой кашицей через нос. Гришка завопил, а когда его голос сорвался на фальцет, захныкал, быстрыми рывками втягивая воздух. Он слизывал горячие слезы со своих бледных губ, втягивал их носом, и их пощипывание и соленый вкус вернули его на песчаный пляж в Евпатории, где он когда-то, будучи пионером детского лагеря, отдыхал. Ларьки с кукурузой и квасом, киоски, где на пыльных стеклах висели полусодранные ценники, выведенные едким маркером и выцветшие на солнце, крики детей и строгий назидательный тон вожатых, волны, томно замахивающиеся на берег – все закружилось фантомным хороводом перед глазами Гришки. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться где угодно, но не здесь, не на этой дороге, как бы в изумлении застывшей перед Гришкой, таким маленьким, но уже преступником.
В затвердевшей тишине он различил что-то помимо собственного скулежа. В это же время он обратил внимание на то, что в серебристом седане, так неудачно его объехавшем, место водителя пустует. Звук раздался снова – он доносился из-за раскуроченного «форда», только теперь Гришка понял, что это человеческий хрип. За багажником он увидел чьи-то ноги и, обнадеженный голосом возможного выжившего, двинулся к ним. Но с увеличением угла обзора тело внезапно оборвалось кровавым месивом у поясницы. Причем одна нога этого обрубка вывернулась как-то совершенно неестественно.
И тут Гришку что-то схватило за голень.
Его взгляд очень неохотно полз к собственным ногам, знакомясь с картиной издалека: вереница расползшихся по асфальту бледно-розовых кишок, а затем – сильно укороченное туловище, вцепившееся руками в гришины ноги и смотрящее будто бы сквозь него.
– Из-извините – Гришка снова стал заикаться, после многих лет работы над собой, но теперь он уже никогда не сможет избавиться от этого недуга – я только х-хотел… я-я только…
– Поганый сученыш, ты зачем башкой своей вертел? – хрипело туловище. – Я видел, как ты оглянулся, я видел, как ты повернул, я видел…
Он мертвой хваткой обвил ноги Гришки, как бойцовский пес стискивает челюсти, чтобы не разжимать их, пока кто-нибудь не раскроит ему череп. Гриша подумал, что нужно бить по глазам, как наставлял отец, когда учил его отбиваться от диких собак.
Вот вдалеке, на пустынной доныне дороге замаячила машина; она вернула Гришку в этот мир. Он выдернул обе ноги из слабеющей удавки не в силах больше слушать эту заевшую пластинку «не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся», уже ослабевшую до вялого шелеста. Машина была еще в нескольких сотнях метров, так что водитель мог и не заметить его. Гришка добежал до велосипеда, вскочил на него, свернул в поле и скрылся за высокой травой».
Стекло
– Так, последний узелок… и… готово!
Перед ним стояла женщина с большими рыбьими глазами, в белой рубашке и бледно-розовых брюках; черные волосы покрывала косынка.
– Еще есть небольшой отек, но прокольчики уже подсохли, так что сегодня мы тебя отпустим. Ну, – медсестра строго посмотрела на пациента, – рассказывай, что на этот раз.
– Да ничего, правда – на скейте упал.
– Боже мой, да какой же тебе скейтборд, с твоими костями?
– Знаю-знаю… маме только…
– Ладно, ступай, мне еще других перевязывать надо. И позвони ей, чтобы забирала – можешь домой ехать…
– Спасибо! – крикнул он уже за дверью и радостный поскакал по коридору.
К вечеру, когда ординаторскую в отделении травматологии обагряли косые закатные лучи и оставался всего час до положенного для выписки времени, приехала мама.
– Извиняюсь… пробки… вы знаете… – она тяжело дышала после пробежки от парковки до больничного лифта; белая рубашка дыбилась на полном животе.
Они стояли в коридоре – мама, хирург и он. На его шею заползла мамина рука. Это вернуло его под купол цирка, где после выступления деткам вешали на шею длинного питона-альбиноса.
– Ничего-ничего, – успокаивал маму хирург, лысый мужчина с рыжеватой щетиной и красивым глубоким голосом. – Операция прошла успешно: пятую пястную кость мы вернули на место и закрепили спицей. Вот, взгляните, как было, – врач обратил к красному солнцу рентгеновский снимок, на котором костяшка над мизинцем надломилась и ушла чуть вглубь. – И как стало, – на втором снимке косточка стояла на прежнем месте, и вдоль сухожилий тянулась спица, сильно выделявшаяся ровностью своей формы на фоне органических тканей.
– Ринат Антонович, я уже и счет потеряла, сколько раз вы чинили моего оболтуса, – удавка на шее «оболтуса» затянулась сильнее, отчего ему стало не хватать воздуха. – Вы чудо!
– Благодарю, – доктор выдержал вежливую улыбку. – Я хотел поговорить о вашем сыне. Понимаете… это не совсем обычная травма, даже с его хрупкими костями.
– Мы ограничили активность, как могли, отгородили ото всех опасностей! – с досадой перечисляла мама.
– Я понимаю, но дело может быть не только…
– Сынок, – перебила она доктора, – расскажи-ка нам, как это произошло.
– Ну, я когда с кресла вставал, кулаками оперся…
– Ну вот, видите – это просто случайность, – снова перебила мама.
Каждый, кто хоть раз разговаривал с этой женщиной, для себя заключал, что в разговоре с ней собственные слова будто бы тяжелели, густели и застревали в горле.
Врач выглядел так, словно пробежал значительную дистанцию; лицо его было бледным и каким-то заостренным, две бессонные ночи в операционной разом навалились на него.
– Что ж, через три дня приходите на перевязку, а через месяц – на контрольный снимок, – Ринат Антонович перевел усталый взгляд на нерадивого пациента.
– Береги руку и никаких нагрузок, понял?
Пока «оболтус» ждал у лифта, мама навязчиво и очень суетливо вручала деньги изможденному хирургу, у которого уже не было сил, чтобы сопротивляться.
Он возвращался домой один – мама уехала к своим подругам отмечать пятницу. Въезд во двор предварял шлагбаум. Немного поколебавшись, он обошел его мимо, хотя имел привычку через него перепрыгивать. Нет, не привычку – обязательство перед собой.
«Я только после операции, сейчас точно не перепрыгну, расслабься» – думал он, обходя шлагбаум. Уже оставив его позади, он обернулся, будто бы тот крикнул ему что-то вслед, что-то подначивающее. Однако тут же с детской площадки послышался уже реальный голос:
– Смотрите-ка, мумия идет! – это кричал один из дворовых мальчишек.
– Мумия! – подхватили остальные. Они играли в «Стоп, земля», но, завидев «мумию», прервались.
– Что, в усыпальницу идешь? – кривлялся заводила.
В те редкие моменты, когда «мумию» видели на улице или в школе, на сдаче экзаменов по пройденному дома, разные его конечности всегда были замотаны бинтом.
Кто-то смеялся, а чуть более воспитанные, вернее, чуть менее невоспитанные, молча провожали «мумию» взглядом.
Он вошел в квартиру и закрыл за собой дверь, оказавшись в густой и холодной темноте. Она была ему по нраву. Он вырос в больничных стенах, как блеклый подсолнух, под светом холодного больничного света. Первые его шаги были по белому, пахнущему хлоркой кафелю, вместо первой сигареты был первый укол ледокаина, а пока других полосовал нож любовных страстей, его полосовал хирургический скальпель. Его классом был процедурный кабинет, а портреты писателей заменяли стенды о распространенных кишечных вирусах. Ему было неуютно наедине с собой. Там, где он себя знает, были слепящие лампы, бросающие отблески от холодных плиточных стен. В темноте он меньше чувствовал себя.
Он прошел на кухню, чтобы сделать кофе. Положил сначала две ложки, но, подумав, вычерпнул примерно половину второй и ссыпал обратно в банку. Сахара насыпал на полторы. Резал хлеб на бутерброды. Один ломоть, потом второй. Чуть замялся и от третьего отрезал половину – не любил переедать: после еды часто надувается живот, и в него так и хочется ткнуть чем-нибудь острым, чтобы он сдулся. Но и недоедать он тоже не любил. В его комнате, заляпанной тягучей вечерней темнотой, стоял сладковатый сухой запах книг, нагоняющий дурман, словно эфирные масла. В углу, убранная в черный чехол, стояла гитара. На полках теснились толстые пожелтевшие книги – собрания сочинений классиков с надорванными потертыми корешками.
Еще он писал, но написанное кроме него самого никто не читал – оно ложилось всклокоченной и густо исписанной скатертью на его стол, и на нее то и дело капнет горчица, или оставит жирный след жаренная куриная ножка.
Комнатная прохлада нагнала на него сон. Он хотел уже опуститься на кровать, чтобы пролистать остаток дня в сладком забытье, но с письменного стола донесся чей-то насмешливый голосок. Кто-то его дразнил. Это была его последняя рукопись. В прошлый раз, работая над ней, он отчаянно боролся с мельтешащимися словами, которые все никак не хотели вставать в нужном порядке. Фразу «В синий дом вошло несколько взмокших и припеченных летним зноем господ в цилиндрах и с тростью у каждого» он переписывал семь раз. Увидев последний вариант («С летним зноем в синий господ вошло несколько взмокших у каждого дом и тростью припеченных»), он рассвирепел, смел бумагу со стола и с размаху обрушил кулак на тяжелый письменный стол. Мама собрала листы в аккуратненькую стопочку: в ней огрызки глав разных рассказов лежали в случайном порядке. Но лист с так неудачно начатой работой лежал самым первым, и порядок тех слов казался таким очевидным, что их автор искренне недоумевал, что в нем могло вызвать такие затруднения. Легко расправившись с этой задачей, он, впрочем, почти тут же вернулся в свой привычный ритм, медленный и мучительный. Глаза отлынивали от текста, словно магниты, повернутые тем же полюсом, взгляд прятался среди далеких панельных домов за окном и растворялся в вечернем небе. В придуманных мирах время нужно стелить ровным полотном, пространство гладко утрамбовывать и равномерно усеивать его действием, но их отдельные обрывки путают мысли, заставляют придираться к красоте слова, они хотят только одного – чтобы ты непременно пропустил одну ямку на грядке или посадил сразу несколько семян в одну. И внутри он изнывал от напряжения, пытаясь ровно засадить этот бесконечный огород; часто зевал, потягивался, заламывал пальцы (которые позволяло здоровье). Чесать голову нельзя. От этого на ней появляются болячки, шелушится кожа, но ощущать на кончиках пальцев ворсистость волос, сладостную жесткость их корней – это так приятно, так… успокаивающе. Ороговевшим от гитарных струн кончиком среднего пальца он ощутил влажный бугорок на коже головы, об который с легким хрустом терлись намокшие корни волос. Они источали солоновато-кислый запах сала. Скоро на месте этого бугорка появится маленькая болячка, которую он обязательно сдерет, наслаждаясь ее выпуклостью и шероховатостью.
Работа немного продвинулась вперед; герои добрались до конца абзаца и на точке сделали привал, где их можно оставить и отдохнуть самому. Была уже глубокая ночь – время утекло в какую-то дыру, от краев которой едко пахнет чернилами ручки. Сонная тяжесть век сменилась пощипыванием в вытаращенных глазах, голова зудела, но на душе было легко.
Уже лежа в постели, он играл в свою любимую игру: стискивал мышцы груди до характерной режущей боли, выгибал руки в локтях, ощупывая тонкий, вытянувшийся змеей бицепс, тужился, пока пресс не начинал жгуче болеть. Напоследок он еще несколько раз оттянул одну стопу так, что сводило икру, вытягивая ее обратно, когда боль становилась нестерпимой, после чего наконец заснул.
Ночью ему снилось, как он плавает в бассейне и хочет проплыть его весь под водой. Вокруг размытая синева, сквозь нее очень смутно проглядывает бортик противоположного конца бассейна. Вот он уже на середине, но легкие понемногу заполняются раскаленным удушьем. Он не может выплыть на поверхность, он должен доплыть до конца. Диафрагма начинает непроизвольно сокращаться, плавленый свинец разливается по всему телу, сердце бешено колотится, отдаваясь в ушах глухим грохотом. Конец бассейна, непостижимо далекий, окутывает искристой чернотой, но всплывать нельзя – жизнь на поверхности хуже смерти под водой.
Он отчаянно откашливал фантомную воду, свесившись с кровати. Ночную тишину квартиры прорезали раскаты маминого храпа. Горепловец включил ночник и сел на кровать. После таких снов он боялся засыпать снова, чтобы не погрузиться в тот же кошмар, но очень скоро незаметно для себя, как и всегда, опять уснул, но уже спокойным сном без сновидений.
Новый день плавно залился в уши маминым разговором с другим голосом из телефона. Все как обычно: они разъедали своими мелкими зубцами гнойную корку чьего-то очередного неверного поступка или слова, как юркие сомики счищают зловонный, болотного цвета, налет со стенок аквариума.
Увидев, что сын проснулся, мама, отстранив трубку от уха, спросила у него, что он будет есть на завтрак. С телефоном в руке, она всегда говорила чуть ласковее – чувство родительского долга пристыжало ее за пустословие. После телефонных разговоров еда обычно была вкуснее – мама с особенным упоением кидалась выполнять этот самый долг.
Но сегодня разговор был слишком уж интересным. Мать хотела накормить голодного ребенка, но от разговора было решительно невозможно оторваться. Блюдо, приготовленное человеком, наклонившим голову к плечу, получилось весьма наклоненным и сильно напоминало мазню из кошачьей миски возле цветочного горшка на кухне. Сама кошка гнусаво орала, закрытая в душевой кабине. Бóльшую часть дня она сидит там, далее кабина очищается от нечистот, промывается, а кошке выдается еда. Мама запирает ее там, потому что она ходит по кухонному столу, оставляет следы мокрых лап на плите и смахивает с полок всякую мелочь типа колец, подвесок и брелоков. А может, это она плохо себя ведет, потому что ее запирают в душевой кабине… Этого до сих пор никто не проверял, да и не собирался.
Кажется, кошка сошла с ума от долгого сидения там: когда кто-нибудь заходит в ванную, она упирается головой в округлую прозрачную дверцу, уставляется на вошедшего расширенными влажными глазами и с равными промежутками мяукает. Ее челюсть в этот момент двигается с какой-то механической мерностью, как на шарнирах, приподнимая щечки со вздыбленными усами. С кухонной стены экран телевизора ведет непрерывный надзор за квартирой, и, когда между ведущими, двумя напыщенными тетушками, произошла постановочная ссора, собака залаяла на экран. От этого колхозного гомона он, зачем-то оставшись завтракать на кухне, чуть снова не ударил по столу кулаком.
Мама сидела на диване в гостиной, внимая голосам из телефона. Он аккуратно раздвинул дверцы душевой кабины, достал оттуда кошку, немного погладил ее, чтобы успокоить, но от этого она только громче заверещала – уже от удовольствия. В любом случае, ее крики уже не привлекают ничье внимание в этой квартире.
Он понес ее к выходу, а когда повернул дверную ручку, собака кинулась к двери, а за ней и мама. Юный контрабандист аккуратно отбросил кошку подальше от входа в квартиру. Ничего, назад она если и пойдет, то не сразу – ей нравится гулять по лестничной клетке, осваивая соседские коврики. Сам он встал в дверях. Мама расспрашивала, куда он уходит, с кем и зачем, и какая-то импульсивная участливость в ее голосе очень раздражала, но сейчас было не время раздражаться. Контрабандист выдержал допрос, а кошка, скрывшись за поворотом, сильно помогла делу. Мама несколько раз выглядывала из-за его плеча, проверяя, не убежала ли кошка, но трубка в ее руках заставила положиться на благоприятный исход.
У подъезда его внимание привлек разговор двух мальчишек – навскидку оканчивающих только первый класс. Его удивило, что ребята в таком юном возрасте говорят о химии и даже оперируют соответствующими терминами: глицерин, пропиленглиголь. Как оказалось, ребята обсуждают рецепт курительной смеси.
В этот раз, озабоченный другими делами, он даже не оглянулся на шлагбаум, когда проходил мимо. Надо сказать, что прыгал он хорошо, хоть и спортивных секций, ясное дело, не посещал. Скорее его ноги научились прыгать высоко, перелетая планку, достаточную, чтобы сохранить достоинство. Войдя вглубь парка, он сошел с асфальтовой дорожки и направился в чащу. Кошка лежала в его руках, как младенец, на спине и ошалело оглядываясь по сторонам. Вся трава поблизости от дорожки была усеяна собачьим калом. Но ничего не поделаешь – мы их выселили из их дома и загадили его, а теперь они загаживают наш.
Отойдя достаточно далеко от дороги, он остановился и поставил кошку, это дряхлое жалкое существо, на землю. Обритая белая шерсть торчала рваными клоками, слегка прикрывая ее тонкое розовое тельце, отовсюду выпирал скелет, туго обтянутый дряблой кожей, хвост с жидкой кисточкой напоминал бузинную палочку. Она уселась на прошлогоднюю бурую листву и стала пищать, глаза были словно две мокрые маслины. Он пошел из леса, а кошка сидела и жалобно смотрела на бессмысленный мир вокруг нее. Он оглянулся и уже с некоторого расстояния смотрел на нее. Усики на ее белых щечках топорщились, он стала протяжно, будто бы с зевком, мяукать. Он пошел прочь, глядя через плечо, моля, чтобы она сделала хотя бы один шаг. Но она так и сидела, не двигаясь с места, тупо пялясь на все и ничего. Он развернулся, подхватил кошку и понес ее домой.
Он шел вдоль изгороди по широкому пастбищу, вокруг чернел дремучий лес, мокрая трава бледно поблескивала в лунном свете, мельница отбрасывала длинную мрачную тень. Прямо за изгородью стоял маленький дедушка. Его седая борода серебрилась в лунном свете, глубоко посаженные глаза прятались в тени сухого лица. Казалось, будто их и вовсе не было, а были только черные впадины. Дедушка что-то неразборчиво бормотал. Путник подошел к нему поближе, и тогда дедушка заплакал. Путник пытался выяснить, в чем дело, но дедушка горько зарыдал. Путнику стало страшно. Дедушка охал и всхлипывал, прикрыв лицо руками. Путник жалобно стонал и временами даже покрикивал, пытаясь выведать, что же так расстроило дедушку. Но от этого они лишь перенеслись в комнату к Путнику, где пахло старыми книгами. Теперь уже Путник истошно кричал на деда, лежа в своей кровати. Его трясло, и он беспомощно вопил, чтобы дед убирался прочь, но тот безутешно ревел, стоя в углу. Негостеприимный хозяин прижался к стене, умоляя деда уйти, и тот, наконец, стал превращаться в зачехленную гитару. Он, подпрыгивая, наступая только на носочки, словно пол устилали раскаленные камни, добежал до двери и включил в комнате свет. На полу, возле кровати, лежал том из собрания сочинений Горького, где была пьеса «На дне». Он уснул с книгой на лице, но приходила мама и положила ее на пол. Было полчетвертого утра. Настенные часы разрезали тишину на равные куски, так что можно было без труда определить по раскату маминого храпа, насколько далеко была молния.
Страх растекся по телу вязкой жижей, поджег уши и щеки, настучал пару раз по сердцу и испарился зловонной засухой во рту. Он чувствовал себя разбитым, уставшим и напуганным. Мочевой пузырь ныл, измотанный длительным воздержанием.Он пошел на кухню смочить горло, а затем – в туалет, попутно включая везде свет.
Вернувшись в комнату, он повис на турнике – пора бы начать разрабатывать руку. Ему уже надоело играть в старую игру, в которой надо протаскивать больной, кренящийся к другим пальцам мизинец мимо безымянного. Он начал подтягиваться, обхватив перекладину первыми четырьмя пальцами. Напряглись кисти и сухожилия, и он почувствовал, как в больной руке, с тыльной стороны ладони, что-то натянулось и будто бы уперлось в кожу. К руке прилила кровь, она чуть надулась, но боли совсем не было – только ощущение натяжения. Заряд бодрости прокатился по телу и развеял сонную вялость. Он принялся отжиматься. Бинт чуть приспустился, но все же продолжал туго сдавливать ладонь в лодочку. Он почувствовал всю длину спицы в своей руке. Сомкнувшиеся сухожилия будто бы выталкивали ее на поверхность. Тогда он оперся на стоялки и попробовал встать на руки. Почти вытянулся в стойке, но костяшку над мизинцем вдруг зажгло, весь торец ладони заныл, и ночной гимнаст врезался стопами в пол, после чего тут же замер, ожидая тревожных возгласов просыпающейся мамы. Но их не последовало. Все лицо как будто распухло от прилившей крови, в висках и под глазами словно бы терлось множество мелких песчинок. Кровь отхлынула, и он пошел в ванную, чтобы посмотреться в зеркало. Лампа над ним высвечивала все уродство с фотографической дотошностью. На отекшем лбу прорезались две кровяные морщины, на висках и вокруг глаз расползлась россыпь красных точек – полопавшихся капилляров. Он поднял брови, и алая сыпь на тонкой коже над веками отвратительно растянулась в переплетении змеящихся фиолетовых вен. Приподняв волосы, он будто растормошил тараканье гнездо: под ними разбегались полчища красных гадов. Щеки разбухли, на них выступили бордовые вмятины, похожие на следы от подушки после сна на лице. Само оно ощущалось тяжелым и разбухшим, глаза сузились, утопленные в заплывших щеках.
Он пошел на кухню, взял ножницы, разрезал бинт, размотал его. Под влажной марлей покоились две уже подзатянувшиеся ранки: одну оставила сломанная кость, другую – медицинский инструмент. Первые две костяшки были бледно-лиловыми, последние две скрывались под отеком, там кожа была желтоватой. От ощущения сырости и непривычной свободы движения руке было неуютно, ей снова стало боязно двигать. Тем не менее, он покрутил ею в кисти. У медицинского прокола был какой-то бугорок. При нажатии он отозвался жгучей болью. Найдя рассадник той боли, которую раньше он чувствовал лишь по чуть-чуть, веснушчатый ночной гореспортсмен испытал ужас, смешанный с удовлетворением. Как будто пыльцы, пошарив в области, где смутно болит, наконец, возвращаются назад, неся на кончиках кровь. Судя по всему, это было основание спицы, а если точнее – новая игра. Перед тем, как снова уснуть, он катал под пальцами свою новую игрушку – ее округлость и выпуклость были бесподобны, а жгучая боль была сладостным лишением, не разрешающим нажимать слишком сильно, но соблазняющим касаться снова и снова.
Проснулся он в девять утра. Если спал допоздна, ему казалось, что он пропустил что-то важное, а закатные лучи при пробуждении всегда нагоняли на него тоску и чувство опустошенности. Утром он обычно писал или читал, потому что утро – это кроткая и нежная пора, когда все еще будто бы не в счет.
Кожа на руке подсохла, отечная область покрылась мелкими шелушащимися бороздками. Две вдавившиеся косточки придавали руке неестественно гладкий вид. Зеленка расплылась от проколов тусклыми изумрудными разводами, заполняя бороздки, и кожа оттого напоминала чешую ящерицы.
Собирался на улицу он рассеянно: к мыслям присосалась, впрыснув в тело озноб, пиявка навязчивой дилеммы: уменьшился ли отек, или же спица стала сильнее выпирать из-под кожи?
Стояла солнечная жаркая погода, и в тени подъезда была блаженная прохлада. Он пошел через двор. Полуденное солнце слепило сонные глаза, припекало грудь, горячий воздух был терпким и душным, пыль щипала горло. Впереди показался шлагбаум. Подошва нагрелась от раскаленного асфальта, стельки намокли от пота. Сейчас пройти мимо нельзя, надо прыгнуть. Сделать несколько длинных аккуратных шагов и прыгнуть, оттолкнувшись изо всех сил и прижав к себе ноги. Хорош отдыхать!