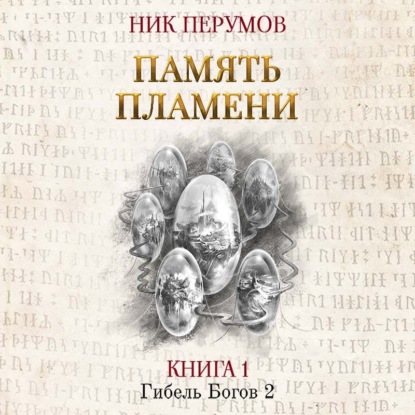Полная версия:
Ник Перумов Я, Всеслав
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ник Перумов
Я, Всеслав (сборник)
Русский Меч
Утро. Туман живым покрывалом затянул поля, укрыл молодую поросль колосьев. Умаявшись, вздохнул, утёр честный трудовой пот старичок-домовик; ночь кончилась, пора на покой, в дальний запечный угол, отсыпаться. В хлеву доканчивали ночную работу овинник и явившийся сегодня ему на подмогу гуменник – оба тощие, патлатые, бороды словно сенные вязки.
Над землёй тучи и ветры. Небесные пастухи борзо гонят свои тучные стада к одним лишь им ведомым пастбищам. Невесомые копья света вонзаются в предутреннюю хмарь, всякий ночной зверь торопится укрыться в логовище, неважно, удачна оказалась охота или нет. Нехотя отступают, уползают в потайные ухоронки и те, кто не наделён плотью, но оттого куда опаснее любого зверя. Впрочем, этим теперь тут поживиться нечем – простые люди давно покинули здешние места. Остался один я. Ну а со мной у них едва ли что получится.
Славное сегодня утро. Редко выдаётся такое. И забывается весь хаос, царящий вокруг моей деревушки. Разруха, развал, запустение. Кое-где – так даже и голодуха. Что-то начало исправляться, правда, особенно когда на местах ни с того ни с сего осильнели попы…
С молитвами у нас теперь всё в порядке; да, видать, далека небесная канцелярия, не достигают слуха тамошних наши вопли и стенания. Оно и понятно – жизнь земная есть миг перед жизнью вечной, и чем больше претерпел ты безропотно мучений, тем светлее тебе будет «там».
Не знаю, не бывал, не видал. Таким, как я, нет ходу в занебесные пределы.
Живу я одиноко и замкнуто. Гостей не бывало давным-давно. В восьми километрах от моей деревеньки – железная дорога и полуживой посёлок-станция Киприя. Когда-то селились там мастеровитые и хозяйственные люди, и лесопилки имелись, и смолокурни, брали камень на гранитном карьере, охотились, огородничали, рыбу ловили незаконными сетями в лесных озёрах – а теперь на одной только станции ещё что-то теплится. Ушло, всё ушло, простая и честная жизнь, когда вопросами не задавались, жили от рассвета до заката, прямо смотрели в глаза каждому дню, брали немудрёные удовольствия от ночи, – а теперь? Ряды пустых заколоченных домов, никому, а особенно спивающимся в городах внукам-правнукам, не нужных. Даже даром дома эти никто не возьмёт. Правда, появился последнее лето тут новый батюшка, повертелся-повертелся, да и подвиг немногих оставшихся мужиков обновить полуразвалившуюся церквушку, в которой при коммунистах сделали что-то вроде склада, а потом и его забросили – всё разворовали, хранить нечего стало. А потом уже и воровать стало некому. Сейчас же вот и вовсе неслыханное дело случилось – приехала семья русских-бежан, заняла пустые земли, три участка в один слили, дом срубили, огород – глазом не окинешь, и работают. Пока ещё не пустили им красного петуха немногие оставшиеся пропойцы.
И в то утро – как чувствовал: беда идёт.
Бед у нас вообще-то хватает. Но то беды обычные, такому, как я, привычные: задерутся ли с горького отчаяния домовики в брошенных избах, или неприкаянно мыкающиеся полевики повздорят с лешими, каждую весну упорно пытающимися вернуть под лесную длань давно заброшенные пашни. Но с этим я умею справляться. Куда хуже, когда в мои пенаты забредают совсем другие личности.
Вот как сегодня.
Я заметил их издали. Парень и девушка, молодые, она – лет двадцати, он чуть постарше. Красивые, сильные. Над плечами чудовищными горбами вздымаются рюкзаки, а их носителям – хоть бы что. Идут легко, упруго, словно и не месили непролазную после выпавших неделю назад дождей грязь восемь вёрст от станции до Осташёва…
Парень и девушка вынырнули из-за зелёных кулис разросшегося ивняка. Там, на краю старого поля, журчал ручей. Беззаботный, он проложил себе путь прямо поперёк заброшенной дороги, не желая знать ни о людях, ни об их заботах. И верно – всем не угодишь.
Однако, непорядок, подумал я. Куда ж смотрели мои лесные доглядчики и прознатчики, коих я не один месяц приваживал, приспосабливая к делу? Почему не подняли тревогу, отчего не предупредили?
Нехорошо. Смутно стало, недобро и мозгливо, словно в тёплый июньский день со всего размаху окунуться в ледяной, ведьмой напущенный туман.
Но заведомо проиграл тот, кто с дрекольем слепо попрёт на окольчуженного витязя. То, что неведомые гости идут именно ко мне, я не сомневался. Что ещё делать в моём Осташёве тем, кто способен незамеченным проскользнуть мимо стражей, расставленных на всех дорогах, тропах, бродах и пролазах?
Встретим их, как подобает по древнему обычаю. И неважно, что о нём почти все забыли. Важно, что я не забыл.
Я откинул крышку и полез в подпол. Замотанные марлей, там стояли ряды глиняных глетчиков с молоком – домовик постарался. Гости дорогие наверняка не побрезгуют с дороги; а там и видно станет, что у них на уме. С кем хлеб преломил, с кем в путь вышел, с кем спиной к спине стоял – вспомнилось старое присловье. Нет, конечно, я понимаю: сейчас это для властей предержащих и слуг их верных – пустой звук; но того не ведают, что, садясь за стол с таким, как я, – многое можно мне рассказать, даже ни слова не произнеся.
Возился я недолго, – вылезал, собирал на стол нехитрое лесное угощение: грибы, соленья, варенья, маринады, мед опять же, – а двое путников подошли уже к самой избе. Постучались – в дверь, что открывается на улицу, хотя и видели, что не заперто. Городские, сразу видно. Деревенские стали б стучать только в сенях, перед тем как в горницу войти. Да только, почитай, и не осталось у нас в округе настоящих деревенских людей – тех, кем Русь всегда стояла, кто в любой беде, воткнув в землю-кормилицу заступ, накинув на плечи худой зипун да засунув за опояску верный плотницкий топор, бестрепетно выходил против любой иноземной силы и – рано или поздно – одерживал верх.
Заворчал Полкан, вылез из-под крыльца, но голоса так и не подал. Впрочем, я не удивился. Кто мимо лесных стражей прошёл незамеченным, на того и пёс сторожевой брехать не станет.
Я пошёл навстречу – а то ведь иначе так и не зайдут. Случалось у меня и такое, как ни дивись.
Летка, остроухая, чёрная с белой грудью породистая лайка, за немалые деньги купленная у знакомого охотника из Будогощи, даже головы не повернула к явившимся – мол, не моё это охотничье дело. Полкана прикормил – вот он и пусть тебе сторожит, а если молчит – так сам виноват; ну а я в лесу работаю.
– Ладно, ладно, лежи себе, – примирительно сказал я. – Никто тебя голос подавать и не заставляет.
Летка уронила лобастую голову на лапы, взглянула как-то грустно, с несобачьей тоскою.
– Будет, будет, – успокоил я её. И отворил дверь.
Худенькая девушка, русые волосы сострижены кругом – говорят, мода ныне такая. По словам Арафраэля, знакомого духа Аэра, – «градуированным каре» именуется. Эх, эх, забыли честные девичьи ко́сы…
Куртки-штормовки на моих гостях были самопальными, удобными, под себя шитыми, в меру потёртыми – сразу видно, в лесах эта пара не новички, хотя кто их знает, конечно, пока в деле не побываешь – за ставни век не заглянешь, как говаривали в моё время.
– Здравствуйте! – первой начала гостья. Глаза у неё большие, светло-серые, вот только какие-то блёклые. Не встретишь больше на Русской земле синеглазых красавиц. Перевелись. То ли за океан подались, кому позволили, то ли линзы контактные надели.
– И вам здравствовать, – ответил я, стараясь, чтобы мой бас не перешёл бы в совсем уж неразборчивое рычание. – Входите, гости дорогие, откушайте, что послано…
Посмотрим, что теперь скажешь, голубушка.
– А… спросить можно? – казалось, девчонка вот-вот поднимет руку, точно первоклашка-отличница. – Кем послано?
Попалась, милая. Завелась с полоборота, как теперь говорят. И даже не думает об осторожности.
– Кто собирал, чьи руки на стол ставили, да чьи слова тем рукам помогали, – спокойно ответил я.
– Неправильно то. Откушайте, чем Бог послал! Вот как надо! – Она укоризненно уставилась на меня. – Потому как всякое яство – от Бога, и радость вся, и жизнь сама…
– Да ты никак сама из обители будешь, что ли? – спокойно спросил я, стараясь, чтобы ничего из моих помыслов не отразилось в голосе. Хотя мысли лезли, признаюсь, не самые весёлые. Ведь означали эти гости только одно – выследили-таки меня, черноризцы. Выследили, как есть, – не зря по окрестным болотам осенью лазали туристы какие-то странные, что под гитару не Высоцкого с Визбором, а «духовное» пели, думали, я не услышу, что ли?
За тремя болотами хоронились, за семь вёрст почти – да только я всё равно услыхал.
– Из обители, Свято-Преображенский монастырь, что в Новгороде, – так же спокойно кивнула мне гостья. Странно – на монашку совершенно не похожа. Да и парень – бицепсы гимнасту впору. Таких в молельне да на монастырском подворье не накачаешь.
– А раз из обители, то и ладно, – свернул я опасный разговор. Не время пока их сверх меры дразнить. – Входите, не чинитесь, у порога не стойте, пятого зазывания ожидая! А зовут-то вас как, гости дорогие?
– А… Я вот – Лика, а он, – девчонка мотнула стриженой головой, – он у нас Ярослав. Правильно?
Напоминаешь ему словно, чтобы из роли не вышел, имя, на день придуманное, не забыл. Видать, плохо моё дело. Даже в мелочах норовят ущучить и уязвить. Вот как с этим именем.
– Умгу, – выдавил из себя парень, набычиваясь и опуская взгляд. Разговаривать он явно не желал. А ещё – он меня боялся. Не по-хорошему боялся, как опасается настоящий солдат сильного врага – что и помогает тому солдату не лезть на рожон, а драться с умом и толком.
Бойся, детинушка, бойся. И не таких, как ты, повидал я за немалый срок. Разные приходили, разноязыкие и разных поверий, и за глазами их раз за разом являлось мне всё то же – жгучая ненависть, густо смешанная со страхом.
И на ёлку влезть, значит, и штанов смолой не замарать. Что в конце концов всех их и губило.
Гостья моя слегка замешкалась, представляясь – имечко-то явно вымышленное. Не хотела, как видно, называть монашеское прозвание, которым нарекли в обители. Эх, эх, черноризцы, хотя и кланяетесь вы Белому Христу, а всё равно старые обряды крепко помните, хотя даже и себе в том не признаётесь, боитесь. И правильно делаете. Ведь если назвать своё подлинное имя, отдаёшься во власть его услыхавшего. Всё ты верно писала, Медведица, Урсула, – вот только для кого или для чего?
Ну, так или иначе, долго гостей на пороге не продержишь.
Вошли в горницу. Лица гостей моих разом, как по команде, обернулись к красному углу – однако на треугольной полке для образов был у меня свален всякий нужный в хозяйстве мелкий инструмент, икон же там отродясь не стояло.
И без меня достаточно у Белого Христа молельщиков.
Гости мои – ни он, ни она, похоже, ничуть этому не удивились. Даже не спросили: на что ж, мол, нам, православным, креститься, в дом входя?
Только чуть заметно дрогнули ресницы у той, что назвалась Ликой.
Спутник её быстро оглядел всё вокруг – цепко, остро, умело; похоже, уже прикидывал, чем и как здесь можно драться, коль до этого дело дойдёт.
А оно ведь, похоже, дойдёт, безрадостно подумал я. Эх, вы, иерархи черноризные, девчонок уверовавших на верную смерть ведь гоните.
Впрочем, пока ещё всё ничего, никто никому в горло не вцепился. И я продолжал играть роль радушного хозяина, усадил их за стол. Перекрестились они, бедолаги (глаз с меня не сводя!), слова свои заветные пошептали – а едят едва-едва. И видно ведь, что голодные! – а всё поставленное только попробовали, словно только что отобедали, а у меня – лишь из вежливости. И ещё – осторожничают. Ярослав этот молоко медленно-медленно тянул, точно боялся – жаба на дне окажется. Помилуйте, что вы, давно время таких шалостей прошло; да и не в моих это правилах – гостей травить. В честном бою переведаться, грудь на грудь, или в каких других умениях померяться – это могу, а вот так, ядом – этим только в Царьграде пробавлялись, было время, когда и у нас ту же напасть чуть не переняли, но – пронесло-таки.
Словно бы и через силу, однако всё же поели. Мало-мало – но честь хозяину оказали.
Пора и посерьёзнее разговор заводить. Не закусывать же тебя сюда принесло, Лика из Свято-Преображенского монастыря!
Я потянулся к пыхтящему самовару.
– Чайку?
– Это можно! – откликнулась Лика, повернув ко мне своё округлое, не без приятности лицо; и совсем хороша вышла бы дева, – но вот глаза эти блёклые… Ровно у мертвеца, убереги нас силы лесные!
Моё дело простое – налил гостям чайку. Сидим. Молчим. Закон строг – пока гость не насытится и сам говорить не начнёт, расспрашивать его невместно. Ну а мне сейчас язык за зубами держать и вовсе велено.
Ярослав-молчун сгорбился над полной чашкой – туча-тучей, словно и не чаю ему я с мёдом предложил, а конской мочи. Лика же эта вроде как ничего, освоилась. Глазками – туда-сюда, по углам, по полкам, по печке…
Смотри, милая, смотри. За погляд у нас денег не берут. Знаю, чего углядеть надеешься, но неужто ж, сюда собираясь, рассчитывала совсем умом тронувшегося застать? Далеко упрятаны мои снасти, не всякий глаз углядит, не каждая рука поднимет, редкая нога дорогу к ним сыщет. Силы лесные и заповедные к ним тропы затворили. И уж тут никого не пропустят, как ни пытайся им взор отвести.
Мельком пожалел я, что давно канула в безвестности старая моя приятельница, в незапамятные времена на страже рубежа меж Явью и Навью поставленная. Мудра, ох мудра была старая и куда поболее меня видала…
Но – вот наконец и с чаепитием покончили. Пора уже мне, как Бабе-яге, той самой подруге моей, гостей спрашивать с пристрастием: «Дело пытаешь али от дела лытаешь?»
Молчание длилось недолго. Тонкие Ликины пальчики оперлись о стол, тонкие кисти прогнулись так, чтобы почти до боли. Волнуется девка, несмотря на всю веру свою. Оно и понятно – никакими молитвами не избыть червя сомнений: а ну как «там» ничего таки нет?.. И напрасны все наши метания со стараниями?
– Мы, Михаил Андреевич, к вам специально приехали. – Ликины глаза впились в мои; нет, есть в тебе вера, девонька, что есть, того не отнимешь. – Специально… повидать вас хотели, поговорить… Братия наша в здешних краях бывали, принесли весть… Мы и решились… Отец-настоятель отпустил и благословил…
Надо ж. Всё сама выкладывает. Мол, бывали тут у вас, видели, как говорится – плавали-знаем.
– За честь спасибо, гостюшка. Давно, значит, в местах этих хаживали? Что ж раньше-то не зашли? Угостил бы не хуже нынешнего.
– Невместно нам просто так в дома стучаться, – покачала она головой, перенимая мой тон.
– Отчего ж так? Места здесь позабытые, бывает, год человека нового не видишь; это мне радоваться надо, что кто-то на огонёк заглянул, ну а вам-то уж… Так с чем же пожаловали, гости дорогие? О чём со мной говорить-то можно? Человек я лесной, дикий, который уж год из дебрей своих носа не высовываю…
– Вот про дебри-то мы вас спросить и хотели, – голос у Лики чуть зазвенел. – В смущении мы. И набольшие наши – тоже. Почему у вас такая деревня странная? Все другие вокруг – и Павлово, и Рокочино, и Дубровка – в развалинах, всё заросло-порушилось, а у вас в Осташёве все дома как новенькие? Не осели, не покривились, крыши как только что крыты…
Правильно углядела, пташка зоркая. Но не могу я, когда избы, не одно поколение помнящие, стоят в разоре.
– Огороды незаросшие, – внезапно вмешался Ярослав. Голос у него сильный, упругий – приятный голос. Девки с такого млеть должны. – Им бы давным-давно бурьяном покрыться – а тут чистая земля! Вскопанная, взрыхлённая – навозу подкинь, и сажать можно!
И это верно. Земля руки помнит едва ль не крепче, чем дома – глаза и лица. Может забыться, сном заснуть, вновь лесом покрыться; но руки, её холившие, всё равно не забудет.
– И поля такие же! – подхватила Лика. – Повсюду они лесом зарастают – а у вас словно под парами стоят. Вот мы и удивились… и братия наша удивилась…
Братия. Это что ж за монастырь у вас там такой, совместный получается, что ли? Ладно, ещё поговорим-поспрашиваем. Может, ещё и обойдётся, может, и впрямь их только за этим сюда прислали…
– Так неужто же ваш отец-настоятель так этим заинтересовался, что вас, бедолаг, погнал в эдакую даль, по нашим хлябям непролазным ноги ломать?
– Конечно! – выпалила Лика. – Что ж тут удивительного? Кто знает, может, на этом месте благословение… может, тут подвижник древний жил или даже святой и теперь заступничает за землю осиротевшую? Как же нам не выяснить?.. Тем более что обитель наша тут неподалёку, в Новограде Великом, день на поезде, а восемь километров – так это ж пустяки, коль по такому богоугодному делу идём!
– А с чего вы решили, что я об этом что-то знать должен?
– Так вы ж здесь живёте! – Вся подавшись вперёд, Лика молитвенно стиснула руки перед грудью. – Вы всё видите, всё знать должны! У вас перед глазами чудо творится – кого ж ещё, кроме вас, нам и спрашивать? Вам-то самому – неужто всё равно?! Ни в жисть не поверю!
Интересно, не интересно… А чего ж тут интересного, если я сам это всё и делаю?!
Я молчал, глядя Лике в глаза. Беспокойство в них, глубоко-глубоко, но страха нет. Уверена в себе, куда больше, чем положено пребывающей при обители. Непонятно только, в каком качестве пребывающей.
Долго ты прятался, сказал я себе, да всё без толку. Как ни хоронись, если частой бороной ведут, рано или поздно на зуб попадёшься.
Правда, зубец этот ещё есть надежда обломать.
Горячо и забыто ворохнулось в груди. Слишком долго я прятался, слишком долго следы путал, вздрагивая от каждого шороха. Сколько можно черноризцам в пояс кланяться – ну, не на самом деле, но всё равно, под их дуду приплясывая, в их игры и по их правилам играя? Себя вспомню – тошно становится. Ведь раньше-то никого и ничего я не боялся. На поле брани забрало не опускал, на медведя с одной рогатиной выходил – и ничего, поджилки не тряслись. Весело было, удаль была, молодецкий задор, даже когда бился насмерть. А монахи эти, божьи заступники…
Как упустили, как проглядели, как получилось, что оказалась власть у них, у черноризцев? Когда Священный Синод оказался над Думой и прочими властями предержащими? Почему в сём собрании только зачнут, а другие дружно, во весь голос подхватывают? Почему патриарх не церковными делами занимается, а в войска ездит, в Кантемировскую танковую или Псковскую десантную дивизии, да не проповеди читать, нравы смягчая, – а инспектируя, в сопровождении целой своры генералов, и сохрани силы лесные какого-нибудь лейтенанта-комвзвода, если в казарме красный угол не так оформлен.
Так в другие времена за «ленинские комнаты» спрашивали.
Дни протекли, власти сменились, а главное – вот оно, неизменное.
Да, нету пока инквизиции. Неверие ещё не преступление, но – осуждается. «Не может тот, кто в Бога не верует, быть нравственным и честным человеком».
Ушли в глубокие катакомбы старообрядцы, которых вроде б тоже никто не гнал. Однако нет более Белокриницкой епархии, ничего не осталось на поверхности, доступного глазу. Ушли, канули на дно, растворились в восточной тайге, хотя сейчас не то время – отыщут, если захотят. Спутники, вертолёты… если не считать иного, что ощущаю я сейчас в сидящей передо мной девчушке со странными и неприятными глазами.
Да, пока не вбивают черноризцы своё учение в головы паровым молотом, обходятся меньшим: уроки Закона Божьего только для желающих (пока), молитвы опять же только для них, на горох тоже никого не ставят. И нету насилия, нет законов и указов, но как-то уж слишком рьяно потянулся к храмам народ.
А разговоры! (Я хоть и в дебрях сижу, а что на свете делается – знаю.) Раньше о таком одни только бабушки-старушки да бездельные кумушки речи вели, а теперь не стесняются и здоровые мужики, коим в самую меру об охоте, рыбалке или даже о любострастных подвигах – всё достойнее. Разговление, неделя страстная, суббота родительская, заутреня, вечерня, а ты в какую обитель, а я такой вклад за упокой сделал, а батюшка вчера на проповеди так про муслимов этих страшно говорил…
Меня это пока не коснулось. По лесным угодьям шастали только туристы, пусть даже, как выяснилось, «из обители». Единственного обитателя позаброшенного Осташёва – меня никто не трогал.
До сегодняшнего дня.
Часта борона, рано или поздно наткнётся. Мне – не армии собирать, не мобилизации проводить, всё войско моё – это я сам; так не хватит ли прятаться? Не пора ли внятно им сказать – «сюда не суйтесь»?
Могут, конечно, двинуться против меня черноризцы со всею силой – что ж, разомну кости, разгоню застоявшуюся кровь. На войне без потерь нельзя, но доверенное мне к сохранению – стоит жизней тысяч и тысяч таких, как я.
– Здесь я живу, всё точно. За домами присматриваю. Где нужно – подправлю, починю, прикрою. Отчего ж не стоять тем домам? За полями смотрю. Где что поднялось – выпалываю, вырубаю. Есть ещё сила в руках, топором махать не разучился, – я потянулся, налил себе ещё чаю, вольно откинулся. Мол, нипочём мне все ваши намёки.
– За всей деревней? – У Лики округлились глаза. – Совсем один? Избы, поля, огороды?.. А зачем, можно спросить?
– Спросить можно, – пожал я плечами. – Всё просто – жду, когда хозяева вернутся. Что ж тут странного?
– Разве ж под силу такое одному человеку?! – выпалила Лика. – Круг полей – на пять километров! Огороды – при каждом доме! Тут надо, чтобы вся деревня жила!
– Верь, гостюшка, не верь – то дело твоё. Однако я душой кривить не привык. Один я тут всем заправляю. Не должно село умирать, пусть даже люди его и бросили.
Переглянулись – нехорошо как-то, со значением. Мол, говори-говори, мы-то знаем, с какого боку подходить. Ясно, что ни единому моему слову они не поверили.
– Ежели за домом постоянно следить, не запускать – так и трудов-то особых прикладывать не приходится… – добавил я на всякий случай, хотя и так видно было, к чему клонятся мои незваные гости.
Беседа пресеклась. Они явно не ожидали, что я вдруг выложу им всё так просто, в лоб. Интересно, что теперь станут делать…
Первой поднялась Лика – судя по всему, именно она, а не Ярослав заправляла в этой компании.
– Что ж, хозяин дорогой, благодарствуем за хлеб-соль. Спасибо этому дому, пойдём ко другому…
– Да куда же вы пойдёте? Нет здесь никаких других домов. Оставайтесь. Горниц у меня две. Не стесните…
– Невместно нам в доме без святого образа ночевать, – мрачно пробубнил Ярослав, упрямо нагибая голову и зло глядя на меня исподлобья. – Без образов и дом-то – не дом, а так, четыре стены да крыша!
Я пожал плечами.
– А по мне – так если крыша над головой имеется, то и ладно. Лишь бы не протекала.
– А ведь сказано, что не хлебом единым… – Ярослав насупился ещё больше, засопел, словно бык. Лика быстро дёрнула его за рукав, мол, молчи, глупый, не время ещё, всё испортишь мне тут.
– Спасибо-спасибо, – выпалила она скороговоркой, – так и сделаем, Михаил Андреевич, не сомневайтесь… Мы тут погулять хотели бы… Рюкзаки вот только бросим – и пойдём, можно? – А сама смотрела на меня выжидательно, словно я её отговаривать собирался, за руки хватать иль ещё как-то препятствовать.
Препятствовать я, конечно, не собирался. Деревня у меня интересная, но не особо интереснее десятков тысяч других, большей частью заброшенных. Интерес к Осташёву могли поддерживать мои дела, а не мои помощники – их-то пока ещё хватало, хотя с истаивающими деревнями уходили и те, кто некогда пришёл сюда вместе с людьми.
– Ну так и отчего же не погулять? – Я пожал плечами. – Уж раз так интересно на пустые да заколоченные избы глазеть… Я б вас лучше в лес сводил, на Омшу, там рыбалка отменная, вдоль павловской дороги б сходили, на сосновые увалы за грибами, или в сторону Мощичина – на Гусинок, или Чёрное озёрко…
– Нет, Михаил Андреевич, – Лика сощурилась, глядя мне прямо в глаза и не опуская взгляда. – Леса у нас и возле обители дивные. Мы сюда именно на деревню посмотреть приехали. На избы, пустые да заколоченные, что вашими стараниями как новенькие стоят. Кстати, спросить хотела: как это вы их в сохранности содержите, внутрь не входя?
Ты приняла вызов, молодец, Лика, уважаю. И каким только ветром тебя в невесты божьи занесло?
– Ничего сложного. Главное, чтобы сверху не прохудилось, – вот так и содержу. Когда крышу подлатаю, когда что-то ещё по мелочи сделаю… – я дразнил её, и она это чувствовала.
А ведь ты привыкла, чтобы тебя боялись, Лика, – вдруг мелькнула мысль. Что ж, раз такая смелая – пройдись-ка по окрестностям деревеньки нашей в сумерках; а то ещё на Мохово болото сходи – там, где Моховый Человек под луной бродит-вздыхает, на судьбу жалуется. Не знаю, поможет тебе тогда молитва твоя, девонька, или нет. Хотя – если пропустили тебя мои лесные сторожа, может, вера твоя у тебя и впрямь настоящая, а такие, я знаю, на многое способны. Может, ты и через Мохового Человека переступишь, головы не повернув и даже не заметив.