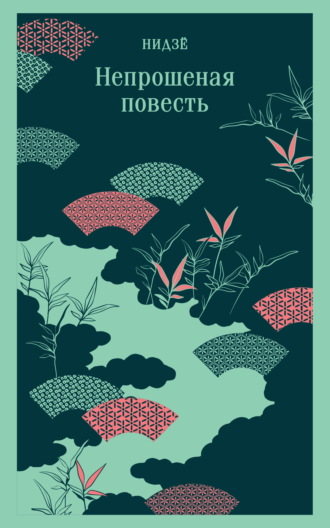
Нидзё
Непрошеная повесть
Мне хотелось безотлучно находиться при покойном отце, не отрываясь глядеть на его изменившийся облик, но, увы, это было невозможно, вечером четвертого дня покойника отправили для сожжения на гору Кагурагаока, и тело его обратилось в бесплотный дым. «Ах, если бы существовала дорога, по которой я могла бы уйти с ним вместе!» – думала я, но все было напрасно, я вернулась домой, унося с собой лишь память о нем да мокрые от слез рукава.
При виде пустой комнаты, где уже никогда не будет отца, я с тоской и любовью вспоминала его облик, каким видела его всего лишь вчера, и горевала, что отныне смогу встретиться с ним только во сне. Даже в последние мгновения перед кончиной он все еще всячески наставлял меня. Одно за другим всплывали в моей памяти воспоминания… Никакими словами не выразить мое горе!
Ах горе мое!
Потоки из слез
заполнят реку подземного царства —
надеюсь, я в ней
снова увижу твой образ.[40]
Вечером пятого дня пришел Накацуна в глубоком трауре, в одежде, черной как у монаха. Недаром он облачился в столь черные одеяния. «Если бы отец стал министром, Накацуна смог бы получить следующий четвертый придворный ранг! – подумала я. – А теперь рухнули его упования…» И опять мучительно сжалось сердце.
– Я иду на могилу… Не нужно ли чего передать? – спросил он. Никто не мог бы удержаться от слез, увидев, как он горюет.
В первый день Семидневья – это было девятого числа – моя мачеха и с нею две служанки и двое самураев приняли постриг. Позвали преподобного настоятеля храма Ясака, и он, провозглашая молитву «В трех мирах круговращенье…», обрил им головы. Я испытывала и грусть, и зависть, наблюдая этот обряд. Мне тоже хотелось бы вступить на праведный путь, но для меня это было невозможно, ведь я была в тягости, нужно было продолжать жить в миру, горюя и плача. Тридцать седьмой день траура опять отметили особым богослужением, в этот день государь прислал мне письмо, полное нежных, ласковых слов соболезнования. Его посланцы приезжали чуть ли не каждый день или через день. «Ах, если б покойный отец видел это, как бы он радовался!» – думала я, и на душе у меня становилось еще тяжелее.
Как раз в это время внезапно скончалась супруга микадо, госпожа Кёгоку-но-Нёин, дочь министра Санэо Тонн. Император любил ее чрезвычайно, мало этого – рожденный ею принц был объявлен наследником; окруженная всеобщим почетом, она была еще совсем молода. Все очень ее жалели. Она прихварывала давно – ее преследовал чей-то злой дух[41], нынешний недуг посчитали обычным недомоганием и не придали особенного значения, как вдруг ее внезапная смерть повергла всех в неописуемое смятение. Мне, недавно потерявшей отца, было особенно понятно горе ее отца-министра, отчаяние супруга-императора.
На пятьдесят седьмой день со смерти отца государь прислал мне хрустальные четки, привязанные к цветку шафрана, изготовленному из золота и серебра, чтобы я поднесла этот дар священнику, служившему заупокойные службы. К цветку был прикреплен лист бумаги со стихами:
Осень
приносит росу,
увлажняя рукав у платья.
Вот сегодня росы много больше
на наряде моем.
Покойный отец всегда так дорожил посланиями государя… Я ответила: «Благодарю вас. Отец тоже, конечно, бесконечно рад на том свете!» – и закончила стихотворением:
Понимаешь ли ты меня?
Осенняя влага
увлажнила рукав —
теперь он промокнет насквозь
от слез моих…
Настала осень; просыпаясь посреди долгой осенней ночи, я прислушивалась к унылому постукиванию деревянных вальков[42], долетавшему в тишине к моему изголовью, и, внимая этим печальным звукам, тосковала по покойному отцу, увлажняя слезами одинокое ложе. В то печальное утро, когда скончался отец, все обитатели дворца, начиная с самого государя, посетили нашу усадьбу или прислали письма с выражением соболезнования. Не счел нужным явиться, вопреки принятому в мире обычаю, только дайнагон Мототоно.
* * *
В середине девятой луны, озаренный ярким лунным сиянием, меня навестил Юки-но Акэбоно, Снежный Рассвет.
После смерти отца он чуть ли не каждый день справлялся обо мне, тревожился о моем самочувствии.
По случаю кончины государя Го-Саги весь мир погрузился в скорбь, он тоже надел одежду темных тонов, и грустно мне было видеть, что платье на нем такое же мрачное, как мое. Я приняла его в покое на южной стороне дома, это был близкий мне человек, с ним можно было говорить без посредников. Полные грусти, мы беседовали о прошлом и настоящем.
– Нынешний год особенно несчастливый, так много горестных событий пришлось пережить нам, что рукава не успевали просохнуть, – говорил он. Всю ночь мы провели за беседой, то плакали, то смеялись, и вот уже колокол в ближнем храме возвестил наступление утра. Долго длятся осенние ночи, но иной раз пролетают поистине слишком быстро… Мне казалось, мы еще не наговорились вдосталь, а уж запели птички…[43]
– Люди, пожалуй, подивились бы столь целомудренному ночному свиданию… – сказал он мне на прощание, а я жалела, что приходится расставаться. Он уже уселся в карету, когда я послала служанку передать ему стихи:
С отцом попрощавшись,
на вкус я узнала, какова разлука.
На рассвете
росою из глаз
увлажнила я край одежды…
Он ответил тоже стихами:
Но я разве
причина твоих печалей?
Слезы твои проливаются
по уходу другого, —
по тому, кто уже не вернется!..
Да, мое изголовье не лелеяло память об этой встрече; смутная печаль томила мне душу, я целый день размышляла об этом ночном свидании, как вдруг увидела – у главных ворот стоит какой-то самурай в коричневом охотничьем кафтане, с ларцом для писем в руках. Это был его посланец.
Нежное, ласковое письмо заканчивалось стихотворением:
Невинный сон
встретил нас
во время любовной ночи.
Не верю, что люди укажут
на мокрые наши платья.
В те дни все мои чувства были обострены, даже этот невинный обмен стихами глубоко запал в душу. Со своей стороны, я тоже написала ему ласковое послание, закончив его стихами:
Осеннее утро
покрывает росою
зеленые травы —
нас разве осудят
за мокрые рукава?
* * *
На сорок девятый день после кончины отца отслужили поминальную службу. Семью покойного представлял мой сводный брат Масааки, офицер дворцовой стражи. Вначале преподобный Сёкобо провозгласил старые, всем известные слова: «Как две уточки-неразлучницы, как две птицы об одном крыле…» Затем службу возглавил праведный Кэндзити; он возложил на алтарь Будды бумаги отца, на обороте коих покойный собственноручно начертал текст Лотосовой сутры. Дайнагоны Сандзё-но-Бомон, Мадэ-но-Кодзи, Такааки Дзэнсёдзи – все присутствовали на заупокойной службе; но, когда, выразив соболезнование, они удалились, скорбь с новой силой сжала мое сердце. Траур окончился – родные и близкие, участвовавшие в богослужении, разъехались по домам. Я тоже уехала в дом кормилицы. Поминальные обряды все же в какой-то степени отвлекали меня от грустных мыслей, помыслы были хоть чем-то заняты, но, когда все уехали и я осталась одна, меня охватила такая скорбь, что словами не выразить.
В эти дни, полные безысходного горя, государь часто украдкой навещал меня. «Как только окончится первый срок удаления[44], тотчас же приезжай во дворец, – говорил он. – Можешь не снимать траурных одеяний, сейчас все носят траур по покойному государю-монаху…» Но я по-прежнему была во власти печальных мыслей, тоска по усопшему нисколько не убывала, и я все дни проводила в уединении.
Сорок девятый день – окончание первого срока траура – пришелся на конец девятой луны. Осень уже полностью вступила в свои права, тише звучал звон цикад; прислушиваясь к их замирающим голосам, я еще острее ощущала неизбывное горе. «Напрасно ты так долго остаешься у родных, дома. Не лучше ли поскорее вернуться во дворец?» – непрерывно звал меня государь, но у меня душа не лежала к дворцовой жизни, мне не хотелось возвращаться туда, а меж тем наступила уже десятая луна.
* * *
Помнится, это было в середине десятой луны… Снова появился посланец Акэбоно с письмом.
«Я был бы готов писать тебе ежедневно, но опасался, как бы мой слуга не встретился с посланцем государя – чего доброго, государь подумает, что ты ему неверна… Вот и вышло, что я долго не подавал о себе вестей…» – писал он.
Дом кормилицы, у которой я поселилась, стоял на углу Четвертой дороги и широкого проезда Оомия; глинобитная стена, окружавшая двор, в одном месте развалилась, и, чтобы загородить проем, посадили колючий кустарник, он так разросся, что высился над оградой. Толстых стволов, однако, было не больше двух.
– А сторож у вас есть? – бросив взгляд на эти стволы, спросил человек Акэбоно у нашего слуги. И услышав в ответ, что сторожей нет, промолвил: – В таком случае, здесь может быть отличный проход! – С этими словами он внезапно одним махом срубил оба толстых ствола и был таков. «К чему бы это?» – в недоумении подумала я, когда мне рассказали об этом, но не придала этому случаю никакого значения и вскоре о нем забыла.
И вдруг, в ту же ночь, когда наступило уже самое глухое, позднее время, кто-то, ведомый лунным сиянием, тихонько постучал в ставню.
– Какой странный стук! Как будто птица стучит… Наверное, болотная курочка! – сказала Тюдзё, моя прислужница-девочка, пошла взглянуть, но вдруг прибежала назад в смертельном испуге.
– Там какой-то мужчина… Говорит, что ему нужно видеть госпожу Нидзё… – сказала она.
Это было так неожиданно, что в первое мгновенье я не знала, что и сказать, и в растерянности молчала, а он меж тем проник в дом и, по голосу девочки отыскав дорогу в мои покои, уже входил в комнату. На нем был охотничий кафтан из ткани с узором кленовых листьев и темно-лиловые шаровары – и то и другое выглядело очень изысканно; по всему было видно, что он пришел тайком, стараясь, чтобы никто его не заметил.
Я была в тягости, когда о любовном свидании невозможно даже помыслить, и твердо решила уж на сей-то раз отказать ему: «Если вы меня любите, встретимся когда-нибудь потом, после…»
– Как раз оттого, что ты сейчас в тягости, тебе нечего опасаться, я ни в коем случае не позволю себе ничего лишнего… Мне хотелось только смиренно поведать тебе о своей любви – ведь я так давно, так долго люблю тебя! Это будет чистая, невинная встреча, я пальцем до тебя не дотронусь, сама богиня Аматэрасу[45] не осудит нас за такое свидание! – убеждал он меня, и я, по всегдашней слабости духа, не решилась наотрез сказать ему: «Нет!», а пока я колебалась, он уже очутился в моей постели.
Всю долгую ночь он нашептывал мне о любви так нежно и ласково, что даже тигр, обитатель Танского царства[46], и тот прослезился бы в умилении… А ведь и у меня сердце было не из дерева, не из камня, в конце концов я невольно поддалась его страсти и, словно в каком-то призрачном сне, впервые разделила с ним греховное ложе, а сама все время трепетала от страха: вдруг государь увидит нашу встречу во сне сегодняшней ночью?
Но вот, разбуженный пением птицы, он удалился, и, глядя ему вслед, я жалела, что приходится расставаться. Проводив его, я снова легла в постель, но уснуть, разумеется, не могла. Еще не полностью рассвело, а мне уже принесли от него послание:
«Перед рассветом
мне слезы застлали взгляд
по дороге домой со свиданья.
Казалось, даже луна, оставаясь на небе,
будто бы хмурилась мне…
Сам не знаю, отчего я полюбил тебя так сильно? Пойми же, как я тосковал по тебе все это время, чуть не умер с тоски, как мучительно таить свои чувства, опасаясь людской молвы…» – писал он.
Я ответила:
Неведомо мне,
тоскует ли сердце твое
после прощания нашего.
Твой образ так ясно я вижу,
что слезы льются из глаз…
…А ведь я старалась всячески избегать греха в моем положении, и что же? – тщетны оказались усилия, и некому было излить душу, пожаловаться на горькую участь. Вдобавок меня терзала тревога: что теперь со мной будет, как взгляну я государю в глаза? Но что я могла? Оставалось лишь, таясь от людей, украдкой лить слезы. И как раз в тот же день, около полудня, пришло письмо от государя.
«Хотел бы я знать, зачем ты так долго живешь в доме кормилицы? В последнее время во дворце стало так малолюдно, что невольно уныние закрадывается в душу…» – писал он даже ласковей, чем обычно, и сердце у меня сжалось еще больнее.
* * *
С нетерпением ждала я наступления ночи, а потом снова дрожала от страха, потому что Акэбоно пришел еще засветло. Никогда в жизни я не знала тайных свиданий, от страха у меня на мгновенье даже отнялся голос. Как на грех, как раз в этот день к кормилице пришел ее муж, Накацуна. После смерти отца он принял постриг и постоянно проживал при храме Сэмбон-Сякадо, но сегодня вернулся домой. «Вы так редко у нас бываете, захотелось проведать вас!» – сказал он мне. По этому случаю собрались и все взрослые дети кормилицы, в доме стало шумно и многолюдно. К тому же сама кормилица была ужасно суетливой и громогласной, что ей вовсе не подобало, ибо она долгое время воспитывалась при дворе покойной принцессы Сэнъёмонъин… Было в ней что-то бесцеремонное, точь-в-точь как у кормилицы принцессы Има-химэ из «Повести о Сагоромо»[47]. Немудрено, что я заранее тревожилась – как мне поступить? Не могла же я отговориться, будто любуюсь лунным сиянием! Я тихонько спрятала Акэбоно в спальне, а сама как ни в чем не бывало уселась у входа и только успела принять непринужденную позу, облокотившись на ящик с древесным углем, как вдруг ко мне пожаловала кормилица. «Ох, беда!..» – подумала я, а она затараторила, да так настойчиво, громко:
– Осенние вечера тянутся долго… Муж говорит – надо развлечь госпожу, давайте поиграем хотя бы в го…[48] Извольте пожаловать, ну!.. Проведем вечер повеселее… Вся моя семья в сборе! – И она принялась поименно перечислять всех своих детей, родных и приемных. – Устроим маленький пир, немножко повеселимся! – громогласно говорила она, так назойливо перечисляя собравшихся, что казалось, этому не будет конца и края.
– Мне нездоровится… – притворно сказала я, отказавшись от приглашения, и кормилица, рассердившись, ушла, бросив на прощание: «Ясное дело, мои слова для вас всегда – звук пустой!» Мне вспомнилось, как она, бывало, постоянно твердила, что за девочками с самых младенческих лет глаз да глаз нужен…
Отведенные мне покои отделялись от главного дома только маленьким двориком, так что ясно слышалось все, что творилось в доме, совсем как в главе «Вечерний лик» из «Повести о Гэндзи», где описано, как к ложу любовников доносился из соседнего дома грохот рисовой ступки. «Наверное, точь-в-точь как здесь!» – думалось мне, и было стыдно перед гостем и оттого еще более неловко.
Я заранее представляла себе, как встречу Акэбоно, о чем ему расскажу, но в такой обстановке было бы даже неуместно, неприлично высказать все наболевшее на душе, и в то же время молчать оказалось тягостно и неловко. Из-за этого шума и суеты пошли прахом мои мечтания. «Подождем, пока они наконец угомонятся и уснут…» – с тревогой думала я. В ожидании этого часа мы, затаившись, тихонечко лежали в постели, как вдруг услышали громкий стук в ворота. Это пришел сын кормилицы Накаёри, служивший при дворе государя Камэямы.
– Прислуживал за ужином государю, вот и запоздал… – пояснял он, входя. – Кстати, по пути сюда я видел на углу проезда Оомия весьма загадочную карету с плетеным кузовом… Заглянул внутрь – а там полным-полно слуг, спят вповалку… А вол привязан к ступице. Интересно, куда и к кому прикатила эта карета?
О ужас! Я насторожила уши и услыхала голос кормилицы:
– Что за люди? Ну-ка, кто-нибудь, сходите и поглядите!
Затем послышался голос мужа:
– Брось, зачем ты их посылаешь? Нам-то какое дело? К чему нам знать, чья это карета, какой нам с этого толк? А вдруг это кто-нибудь проведал, что госпожа Нидзё сейчас находится здесь, и ждет, пока мы уснем, чтобы пробраться к ней через пролом в ограде? Недаром говорится, что с дочерью не оберешься хлопот, едва она появится на свет… И так у всех, у благородных, у простолюдинов…
– Типун тебе на язык! Кому к ней приезжать? Если это государь, зачем бы он стал таиться? – явственно послышалась речь кормилицы, а так как в карете с плетеным кузовом ездят чиновники шестого, низшего ранга, она бесцеремонно добавила: – Все равно было бы непростительно, если б она связалась с человеком всего лишь шестого ранга! – Акэбоно тоже слышал эти слова, это было ужасно! Тут вмешался в разговор кто-то из сыновей кормилицы, начал громко рассуждать о том о сем… Одним словом, покоя нам не было. К этому времени, судя по всему, поспело и угощение, потому что послышались голоса: «Позовите же госпожу Нидзё!», пришла служанка и стала меня звать. А когда служанка доложила: «Госпожа Нидзё нездорова, плохо себя чувствует!», тотчас же раздался настойчивый стук в раздвижную перегородку – это явилась сама кормилица.
– Что с вами? Что у вас болит? Я принесла вам угощение, покушайте! Вы меня слышите? – стучала она в перегородку у самого изголовья. Дальше отмалчиваться было нельзя, и я откликнулась:
– Мне что-то не по себе…
– Но ведь это ваше любимое лакомство… Когда в доме пусто, вы, как нарочно, требуете подать, а когда приготовят специально для вас, по всегдашнему обыкновению отказываетесь даже отведать… Ну, как знаете! – И она удалилась с недовольным ворчанием. В обычное время я нашла бы, что ей ответить, но сейчас молчала, ни жива ни мертва от страха, а он спросил:
– Что это ты так любишь?
Назови я что-нибудь поэтичное, утонченное, вроде «инея», «снега» или «изморози», он все равно не поверил бы, и я чистосердечно призналась:
– Может быть, вам покажется это блажью… Иногда я прошу приготовить немножко сладкого белого саке… Кормилица поднимает вокруг этого такой шум… Можно подумать невесть что…
– Стало быть, сегодня мне повезло! Теперь я знаю, чем тебя угостить, когда ты придешь ко мне в гости. Обязательно припасу сладкое саке, хотя бы пришлось посылать за ним в Танскую землю! – с улыбкой произнес он. Никогда не забуду этой улыбки! Не было и не будет для меня дороже воспоминания, чем об этих, в сущности, мучительных встречах.
* * *
…Так продолжались наши свидания, и по мере того, как любовь к нему становилась все сильнее и глубже, мне все меньше хотелось возвращаться во дворец к государю. А тут случилось, что в конце десятой луны захворала Гон-Дайнагон, моя бабка с материнской стороны. Не прошло и нескольких дней, как я, не слишком озабоченная ее болезнью, получила известие, что она внезапно, можно сказать – скоропостижно, скончалась. Гон-Дайнагон уже с давних пор жила в Аято, близ храма Дзэнриндзи, у Восточной горы, Хигасиямы, вдали от родных. Тем не менее сообщение о ее смерти вновь повергло меня в тоску и горе – с ее смертью как бы рвалась последняя призрачная связь с покойными родителями. Несчастья сыпались на меня одно за другим…
Зимняя морось приходит
вслед осени росам —
непрестанно
увлажняю рукав
слезами горя.
В последнее время государь совсем перестал писать мне, и я тревожилась – уж не проведал ли он о моем прегрешении? Но как раз в эти дни пришло от него письмо, даже более нежное, чем обычно: «Как ты живешь, я давно не имею от тебя весточки…» – писал государь, а в конце письма стояла приписка: «Сегодня вечером пришлю за тобой карету». Я ответила: «Позавчера скончалась моя бабка. Я приеду, как только пройдет срок траура, ведь это близкая мне родня…» – и приложила к письму стихотворение:
Услышь же меня!
Холодный дождь выпал —
влажность росы —
не могу сдержать слез,
думая о нашей разлуке.
В ответ я получила от государя стихотворение:
Неведомо было мне,
что ложе твое захватила
погода печали.
Издалека обращаясь к тебе,
слезы лью…
* * *
В начале одиннадцатой луны я вернулась во дворец, но жизнь при дворе совсем перестала мне нравиться, здесь все напоминало мне о покойном отце, его образ неотступно маячил рядом. Я чувствовала себя стесненно, неловко, к тому же государыня относилась ко мне все более неприветливо, одним словом, все, все вокруг было мне не по сердцу. Государь приказал деду моему Хёбуке и дяде, дайнагону Дзэнсёдзи, стать моими опекунами: «Нидзё останется служить при дворе, а вы заботьтесь, чтобы все было так, как при жизни ее отца-дайнагона; наряды и все прочее, что понадобится, выдавайте из податей, поступающих во дворец!» Конечно, я была очень благодарна ему за такое распоряжение, но самой мне больше всего хотелось поскорее разрешиться от бремени, снова обрести прежнее здоровье, подвижность, а потом поселиться где-нибудь в тихом, уединенном жилище и молиться там за упокой матери и отца, дабы освободились они от круговращения в Шести мирах. Только об этом я помышляла и в конце той же луны вновь покинула дворец.
Монахиня Синганбо, настоятельница обители в Дайго, доводилась мне дальней родней; я решила поехать к ней, участвовать в богослужениях, слушать молитвы. Это был убогий приют, где зимой едва вилась тонкая струйка дыма над горевшим в очаге хворостом. Вода в желобе то и дело переставала журчать, скованная морозом, едва заметны были скудные приготовления к Новому году. И вдруг, в самом конце двенадцатой луны, поздней ночью, когда в небе светился ущербный месяц, сюда тайно пожаловал государь.
Он приехал в простой карете с плетеным кузовом, в сопровождении дайнагона Дзэнсёдзи.
– Сейчас я живу во дворце Фусими, поблизости, вспомнил о тебе и, видишь, приехал! – сказал он, а я удивилась, откуда он проведал, что я живу здесь. Этой ночью государь был со мной особенно ласков, беседовал так сердечно, проникновенно, но вскоре, пробужденный утренним колоколом, поднялся и уехал. Рассветный месяц клонился к западу, над зубцами гор на восточной стороне неба протянулись полоски облаков, снежинки, как лепестки цветов сакуры, падали на подтаявший снег, как будто нарочно решив украсить отъезд государя.
Его темный, не украшенный гербами кафтан и такого же цвета шаровары были под стать моему траурному одеянию и выглядели изысканно и прекрасно. Монахиням, идущим в этот час к заутрене, было невдомек, что перед ними карета самого государя. В грубых одеждах, поверх которых было накинуто некое подобие оплечья, они шли мимо, переговариваясь между собой: «Ох, не опоздать бы на молитву!.. А где монахиня Н.? А монахиня такая-то? Все еще спит?..» Я смотрела на них с чувством, похожим на зависть. Но тут монахини заметили наконец самураев, тоже одетых в темное, – они подавали государю карету – и, кажется, только тогда сообразили, кто перед ними. Некоторые с перепугу даже бросились прятаться.
– До встречи! – сказал мне государь и отбыл, а на моем рукаве остались слезы грусти, пролитые в час расставания. Мне казалось, мое платье насквозь пропиталось ароматом, исходящим от его одеяний. Со смешанным чувством вдыхая это благоухание, я прислушивалась к голосам монахинь, служивших заутреню, к словам гимна, который они распевали:
Ах, у неба восседаешь,
славный властелин!
Как же больно будет падать
во тьму Трех низин…
И мне было даже жаль, что служба окончилась слишком быстро.
Когда полностью рассвело, мне принесли письмо. «Прощание с тобой сегодня утром, – писал государь, – наполнило мою душу дотоле не изведанным очарованием печали…»
В ответ я послала ему стихи:
Как ясно вспоминаю
твой взгляд,
освященный зарей!
Как жаль, что сейчас ты
не видишь слезы мои…
* * *
Вечером, когда до окончания года оставалось всего три дня, мне было особенно грустно и я пришла к настоятельнице. «Вряд ли где-нибудь сыщется такая тишина, как у нас», – сказала она и, как видно желая скрасить мое уединение, созвала пожилых монахинь поговорить и послушать о старине. Кругом царила глубокая тишина, лед сковал струйки воды, падавшие из желоба в саду, лишь вдалеке, в горах, стучал топор дровосека, это создавало проникновенное настроение, напоминало сцену из какой-то старинной повести. Вскоре совсем стемнело, замерцали редкие огоньки.
Закончилась служба первой предновогодней ночи. «Сегодня ляжем спать пораньше!» – говорили монахини, когда внезапно послышался чей-то осторожный стук в ставню. «Странно… Кто бы это мог быть в столь поздний час?» – подумала я, приоткрыла ставню, и что же? – это был он, Акэбоно, Снежный Рассвет.
– Что вы, что вы!.. Здесь монастырь… Какой стыд, если монахини увидят столь нескромное поведение! К тому же у меня сейчас совсем не то на уме, оттого я и затворилась в этом монастыре… А пребывать здесь надо с чистой душой, иначе какой в том смысл? Посещения государя – другое дело, я бессильна им помешать, но свидание ради пустой утехи – великий грех… Ступайте, ступайте прочь, прошу вас! – говорила я, стараясь не слишком его обидеть. На беду, как раз в это время повалил густой снег, налетел свирепый порыв ветра, поднялась настоящая метель, и он стал спорить:
– Жестокая! Дай же мне хотя бы войти под крышу! Я уйду, как только снегопад прекратится!
Монахини услышали наши голоса.
– Ах, какое жестокосердие!.. Так нельзя! Кто бы ни был этот пришелец, он явился в нашу обитель по зову сердца… На улице дует такой холодный ветер, а вы… В чем дело, почему вы не хотите его впустить? – И они отодвинули задвижку на ставнях, раздули огонь в очаге, а ему только это и было нужно, он уже прошел в дом.
Словно в оправдание его поступка, снег повалил с удвоенной силой, погребая и горные вершины, и строения чуть ли не по самый карниз, и всю ночь напролет так жутко завывал ветер, что и с наступлением утра Акэбоно беспечно остался лежать подле меня, я же все время трепетала от страха. Однако что я могла? Я ломала голову, как мне быть, а меж тем, когда солнце стояло уже высоко, прибыли двое его слуг, нагруженные различными дарами. «Час от часу не легче!» – думала я, глядя, как они раздают подарки монахиням – всё вещи, нужные в обиходе.
– Теперь нам не страшны ни ветры, ни зимние холода! – ликовала настоятельница.
Это была монашеская одежда – рясы, оплечья, – дары, предназначенные, в сущности, Будде, и я была немало поражена, услыхав, как монахини говорят друг другу:
– Наконец-то и нашу обитель, убогую, как бедная хижина дровосека, озарило благостное сияние!
Казалось бы, для них не должно быть более радостного события, чем посещение государя, разве что явление самого Будды, однако, когда государь уезжал, они очень сдержанно его проводили, никто из монахинь не восторгался: «О, прекрасно! Великолепно!» Столь неподобающее поведение, безусловно, следует осудить; зато сейчас все прямо голову потеряли, так обрадовались щедрым подаркам. Поистине, причудливо устроен суетный мир!.. Мне достались новогодние одеяния, не слишком яркие, темно-пурпурного цвета, их было несколько, и к ним – тройное белое косодэ. И хоть я по-прежнему терзалась тревогой, как бы кто-нибудь не проведал моей тайны, день прошел как сплошной оживленный праздник.
Назавтра он ушел, сказав, что оставаться надолго ему никак невозможно, и попросил: «Проводи же меня хотя бы!..» На фоне бледного предрассветного неба искрился снег на горных вершинах, виднелись фигуры нескольких его слуг в белых охотничьих кафтанах, и, когда он уехал, я сама не ожидала, что боль разлуки будет столь нестерпимой!
В последний день года за мной приехали кормилица, слуги. «В вашем положении не следует оставаться в глухом горном краю!» – сказала она, и мне пришлось против воли возвратиться в столицу. Так окончился этот год.
* * *
Минувший год принес горе не только мне – по случаю смерти государя Го-Саги весь мир погрузился в траур, и потому новогодние празднества отметили во дворце очень скромно, а мне опять вспомнился покойный отец, и снова слезы увлажнили рукав… Обычно с наступлением весны я всегда ходила молиться в храм бога Хатимана[49], но в этом году из-за траура не смела переступить священный порог и молилась, стоя поодаль, за воротами. О том, как покойный отец явился мне во сне, я уже упоминала в другом месте, поэтому снова писать об этом не буду.
* * *
Во второй луне, вечером десятого дня, я почувствовала приближение родов. Ничего радостного не было у меня в ту пору; государь как раз в эти дни был весьма озабочен[50], в делах трона многое вершилось вопреки его воле, я тоже пребывала в унынии. Все хлопоты, связанные с родами, взял на себя дайнагон Дзэнсёдзи. От государя вышло распоряжение монастырю Добра и Мира, Ниннадзи, молиться в главном храме богу Айдзэну, настоятелю монастыря Высшей Мудрости, Ханнядзи, епископу Нарутаки приказано было взывать о благополучном разрешении от бремени к продлевающему жизнь бодхисаттве Фугэну, а настоятелю монастыря Бисямон молиться целителю Якуси, – все эти молебны должны были совершаться в главных храмах. Как раз в это время из монастыря Кимбусэн в столицу прибыл младший брат отца, епископ Доте. «Не могу забыть, как тревожился о тебе покойный дайнагон!» – сказал он и тоже пришел молиться.
После полуночи родовые муки стали еще сильнее. Приехала моя тетка, госпожа Кёгоку, – ее прислал государь, явился дед Хёбукё, возле меня собралось много народа. «Ах, если б жив был отец!» – при этой мысли слезы выступили у меня на глазах. Прислонившись к служанке, я ненадолго задремала, и мне приснился отец, совсем такой, каким я знала его при жизни. Мне почудилось, будто он с озабоченным видом подошел, чтобы поддержать меня сзади, и в этот самый миг родился младенец – полагалось бы, наверно, сказать «родился принц…». Роды прошли благополучно, это, конечно, было большое счастье, и все же меня не покидала мысль о грехе, которым я связала себя с тем, другим, с Акэбоно, и сердце мое рвалось на части.
Хотя роды происходили, можно сказать, тайно, все же дядя Дзэнсёдзи прислал новорожденному принцу меч-талисман и все прочее, что положено для младенца, а также награды, пусть и не такие уж щедрые, священникам, возносившим молитвы. «Будь жив отец, я, конечно же, рожала бы в усадьбе Кавасаки, под отчим кровом…» – думала я, но дайнагон Дзэнсёдзи – надо отдать ему справедливость – действовал весьма расторопно, позаботился обо всем, вплоть до одежды для кормилицы, не забыл и «звон тетивы»[51]. Да и все другие обряды совершались, как предписывает обычай, один за другим, в строгом порядке. Так незаметно, словно во сне, пролетел этот год. Много было радостного, торжественного – роды, звон тетивы, но много и горестного – отец, явившийся мне во сне… Возле меня все время толпились люди, и хотя так уж повелось исстари, но мне было тяжко думать, что я против воли оказалась выставленной на обозрение чужим, посторонним взорам… Младенец родился мужского пола – это, конечно, была милость богов, но душа моя пребывала в ту пору в таком смятении, что невольно думалось: все напрасно, такой грешнице, как я, не поможет даже подобная благодать…
* * *
В двенадцатую луну, по заведенному обычаю, все во дворце очень заняты – служат молебны, непрерывно происходят богослужения; я тоже намеревалась отслужить дома молебен, когда совсем неожиданно Акэбоно снова отважился навестить меня при свете невеселой зимней луны. Всю ночь длилось наше свидание. «Утро настанет еще нескоро, это кричат ночные птицы…» – думала я. Увы, я ошиблась; возвещая близкий рассвет, запели птички, незаметно наступило утро, стало совсем светло. «Теперь возвращаться опасно!» – сказал он и остался у меня в комнате. Мы проводили время вдвоем, мне было страшно, а в это время принесли письмо государя, больше чем обычно полное ласковых слов любви. Письмо заканчивалось стихотворением:



