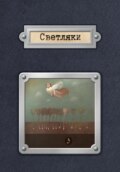Наталья Славина
3 ряд, 17 место
Она быстро сунула мне в руку бумажку, закрыла за собой дверь и ушла. А я представила себе эти могилы. Вот Сашенькина, а вот рядышком ее – красивая, с памятником (денег же много оставила), цветочки высажены, камешки белые, как на море. А потом, через какое-то время, где-то тут и моя могилка будет – более скромная, наверное, ничего я на нее не скопила. Где именно меня положат? С другой стороны от Саши? У них в ногах? Или меня к ней положат, где удобнее копать? Земля-то там еще не так затвердела, рыхлая…
Я очень распереживалась, сердце чуть прихватило, может, невралгия вступила, не разобрала. Я вспомнила нашу с Сашенькой жизнь, свадьбу студенческую, опять увидела черное небо, запорошенное, как снежинками, звездами, желтый свет от круглой луны, почувствовала запах костра, вкус его поцелуев. Даже боль на губах ощутила. Ведь как мы целовались с ним тогда…
Я дала коту поесть, выключила большой свет, телевизор и написала записку дочке и семье всей, хорошие слова всякие. Потом взяла эту ее мятую бумажку с адресом и вместе со своим мобильным телефоном выкинула в помойное ведро. Оделась, сходила на улицу, выбросила все в мусорный контейнер. Вернулась, полила цветы, допила виски. Закусила виноградом. Хорошее послевкусие осталось. Потом легла на диван и умерла. Да, умерла, чтоб опередить ее. Цель я достигла, смысл жизни пропал. В конце концов, имею право – умереть первой.
Зеленые руки
Кирочка Федоровна толкнула тележку в сторону кассы, но цветочный стеллаж будто опять прокричал ей вслед: подожди, мол, я здесь. Она тяжко вздохнула – этот круг, по которому она ходит, как усталый пони, не разорвется, кажется, никогда. Она взяла орхидею с поволокими глазами в обрамлении фиолетовых ресниц, увидела новый цветок, больше похожий на уродливый ананас. Собралась уходить, но заметила, как маленький кактусик в желтой шляпке жалобно просится на ручки. Она забрала его и вернулась к тележке у кассы.
– Любите цветочки? – приветливо заметила кассирша. – Я тоже. У меня дома настоящий сад: все цветет, лезет по стенам, потолку, опадает и колосится вновь. Я только успеваю отсаживать и покупать новые горшки. «Зеленые руки», – говорит моя свекровь. У вас тоже зеленые?
Кирочка Федоровна машинально посмотрела на свои, среднего возраста, с выступающими прожилками, и утвердительно кивнула. Дома протерла пыль с широкого подоконника, выкинула от предыдущего цветка горшок с клубком засохших корней. Поставила кактус, рядом ананас и новую, с поволоки-ми глазами, орхидею.
– Вы у меня умрете, – обратилась она к новым жильцам, – все трое. Первой умрешь ты, с глазами, но тебя я выкину последней, потому что ты дорогая. Следом умрет ананас, а последним гикнется кактус. Тебя ж вроде просто тупо не надо поливать, так? Но ты все равно умрешь… или от жажды, или захлебнешься, или от разрыва сердца – сейчас точно не знаю, но умрешь. Мне вас жаль. У каждого своя судьба, просто смиритесь.
Она взяла бутылку с отстоянной водой и полила всю троицу. С новосельем, милые.
Кирочка Федоровна понимала, что цветы и мужчины – ее карма, которую она отрабатывает за прошлые жизни. Возможно, раньше она была садовником-эротоманом или нимфоманкой, неприлично часто меняющей любовников, с которыми спала исключительно в саду или прямо на клумбе. Какая-то связь должна была существовать. Иначе почему и цветы, и мужчины одновременно. Не дается же человеку просто так вот это проклятие – когда ни один, ни один самый неприхотливый цветочек не может протянуть и месяца у нее дома и ни один, ни один самый замызганный и непривередливый мужичонка не задержится и тем более не скажет, что любит или, о, боги, хочет жениться. И цветы, и мужчины исчезали из жизни Кирочки Федоровны без следа. Она просто закрывала дверь – входную или крышку мусопровода – и забывала о них, чтоб зря не переживать. Все слезы были уже выплаканы. Но вот же напасть, вновь и вновь она впрягалась, вставала на этот круг и начинала движение к расставанию, заводила новые цветы и новый роман, чтоб убедиться – у нее не зеленые руки, у нее руки-убийцы.
Первым умер ананас. Пришла соседка тетя Валя, которая иногда убиралась у нее за небольшие деньги, посмотрела опытным патологоанатомом и мрачно произнесла:
– Сдох-засох.
– Но почему? – растерянно спросила Кира. – Я его поливала.
– А я тебе говорила, не покупай экзотику. Куй его знает, что им нужно, экзотическим. Может, его сырым мясом кормить надо. Да-да, а чего ты удивляешься, бывают такие цветы – сырое мясо едят так, что за щеками трещит. Орхидея вон не перелей – он этого не любит.
– Я много не поливаю. Ни ее, ни кактус. Но цветы у орхидеи уже опали, а шляпка кактуса потемнела, хотя красивая, желтенькая была. Как цыпленочек.
– Ты с ними разговариваешь?
– Разговариваю…
– Скажи, мол, не уходите от меня, останьтесь. Я так свою Светочку уговорила остаться. У меня беременность один месяц. Сдуру пошла в женскую консультацию: молодая была, как валенок голова – сверху шерстяная, внутри пустота, хоть кричи туда. Они в этих консультациях за ранний учет беременности какие-то бонусы давали. Типа, на три дня больше декретный отпуск или прибавка двадцать копеек. Не помню. В общем, эта врачиха-барракуда вошла в меня обеими руками, плечами и ноги уже подтянула, будто полностью залезть надумала. И начала там во мне ходить и осваиваться. Чувствую, сейчас зацепится за середину, встряхнет и вывернет наизнанку. Но я молодая, терплю, поперек слова тогда молвить не смела. Может, думаю, у них так принято, у докторшей этих, промять тебя за все внутренние органы. Барракуда выползла из меня, как из бани, мокрая и счастливая, и только одно правильно сказала – девочка у тебя будет. Вышла я из консультации, и так мне плохо стало – мутит, тошнит, ложись прям тут и помирай. Еле до дома дочухала, на диван свалилась, скрючилась так, как сама в мамке лежала, и начала со Светкой своей разговаривать – миленькая, не уходи, не оставляй меня, так тебя люблю, так хочу с тобой быть, пожалуйста. И молюсь. Не Богу молюсь, а деточке своей крошечной, в миллиметр ростом, в крошку хлебную весом. Еще но-шпы глотнула и заснула. И осталась она, Светка, со мной. Вон сама уж троих нарожала. И ты молись им, цветочкам своим.
Поводила тетя Валя еще тряпкой по полу, бросила ее в ведро и ушла. «Дурой не будь», – сказала напоследок. Это у нее вместо «до свидания» всегда.
Вечером к Кирочке Федоровне зашел Аркашка. Они попили чайку, быстренько удовлетворили друг друга в постели, и Аркашка пошел.
– Слушай, – сказала Кирочка Федоровна ему уже в дверях, – почему меня никто замуж не зовет?
– Я?! – испугался Аркашка.
– Ну и ты тоже. Но не только ты. Никто.
Аркашка начал смешно переминаться с ноги на ногу, как будто хотел в туалет.
– Это… это… я не знаю про других. Но я… это… у меня вообще нет таких планов, как бы замуж, в смысле, жениться ни на ком.
– Ни на ком, понятно. Ладно, расслабься, я пошутила, я тоже не хочу замуж.
– А-а-а… – обрадовался Аркашка и перестал переминаться. – Шутишь всё. Мне приходить на следующей неделе-то?
– Да как хочешь, Аркаш.
И закрыла дверь. Пошла на кухню, поставила чашки в раковину, погасила свет. Навестила цветы. Кактус, кажется, уже отходил от этого мира в другой.
Кирочка Федоровна взяла его в руки и сказала:
– Значит так, даже не смей умирать, слышишь? Я, может, только тебя всегда ждала, любила и хочу, чтоб ты до конца жизни моей вот здесь, на этом самом подоконнике, стоял. Хочешь в шляпе своей дурацкой, хочешь – без. Но какого черта, вы все тут дохнете, что я, не человек?! Руки у меня, что ли, не зеленые, как у всех?! Вот сейчас тебя поставлю, живи давай!
Она поставила кактус на место и посмотрела на орхидею. Та наклонилась в сторону окна, будто ей стало тяжело слушать все эти причитания Кирочки. «Предатели», – сказала про себя Кирочка Федоровна.
Через неделю она выбросила кактус. Он совсем почернел и стал тонким, как пролежавший всю зиму опавший листок. Говори с ними, не говори, один черт – в мусоре окажутся. Кирочка Федоровна покрутила орхидею, было непонятно, сдохла она уже или еще дышит.
Тетя Валя отжала тряпку, плюхнула ее в ведро, вытерла руки о передник:
– Кирусь, слышь, я тут посоветовалась с нашей кассиршей из супермаркета, она говорит, что с орхидеями легко. Им не нужен прямой свет и даже вода особенно не нужна. Клади в горшок раз в неделю-полторы кусочки льда и не трогай, с места не переставляй. Лед есть у тебя?
– Есть. Так заморозятся они?
– Ой, батюшки, защитница цветов нашлась, заморозятся они! Все равно помирает вон, видишь. А потом, когда поживет у тебя полгодика, раздобреет, будет цветку этому, орхидею, хорошо, ты ему – хренак! – и стресс устрой.
– В смысле, стресс? Побить? Наорать? О пол кинуть?
– Не будь дурой. Поставь в холод. Или не поливай месяц вообще, лед не клади. В коридор отнеси. Выведи из зоны комфорта. Они от стресса цвести начинают. В общем, видимо, с ними не как с детьми, а как с мужиками надо. Корми, держи в комфорте, игнорируй и стрессуй раз в полгода. Делай, как я говорю, не будь дурой-то. Просто клади лед и перестань думать – помрет он у тебя, не помрет? Купила, положила лед, забыла. У тебя эта… эта… гипер… чего-то там. Типа, слишком ты за ними следишь и слишком хочешь, чтоб выжили.
– Гиперопека.
– Да, точно! А ты отпусти ситуацию-то. Пусть сами живут и выживают. Просто улыбайся – мол, ну и хорошо, что вы есть. Положила лед и пошла по делам бабьим.
– Слушай, Аркаш, – сказала Кирочка Федоровна, когда следующее свидание подходило к концу, – давай, короче, всё. Чего-то мне надоело: туда, сюда, обратно. Как поезд по расписанию. Хороший ты, Аркашка, но ты же не поезд, а я не вокзал.
Аркашка пожал плечами, она закрыла за ним дверь.
Через день пришел опять:
– Ты обиделась, что ли?
– На что?
– Что замуж тебя не зову?
– Да с чего ты взял-то? Я тогда пошутила просто.
Аркашка замялся опять. Жалко его стало. Кирочка Федоровна представила его маленьким мальчиком и как, наверное, мама его любила и счастья желала. Желала, желала и никак дождаться не смогла. А он стоял такой маленький в неудобных обстоятельствах и переминался с ноги на ногу. А мама жалела до слез. У Кирочки Федоровны защипало в носу, на глазах навернулись жальские слезы.
– Можно пройти? – промямлил Аркашка.
Кирочка Федоровна пропустила.
Он прошел на кухню, вытащил из рюкзака сверток в газетной обертке:
– На вот, тебе.
– Что это?
– Разверни, что ли.
Кирочка Федоровна порвала газету, потом еще один слой.
– Что это ты так закутал?
– Так холодно на улице, замерзнет.
То была орхидея – новенькая, с белыми цветочками.
– Смешной ты, Аркашка.
Кирочка Федоровна поставила горшок рядом с орхидеей, которая собиралась умирать, да вроде передумала – выпрямилась, а на темно-зеленом проволочном стволике появились первые почки – миллиметр ростом, с хлебную крошку.
– Вижу, что ты орхидеи любишь, решил купить тебе.
– Спасибо.
– Мне идти?
– Иди, Аркаш.
– Я приду еще, можно?
– Представляешь, некоторые цветы мясо сырое едят. Ни воды, ни льда, ни солнца им не надо. Сырое мясо им подавай, слышал такое?
– Я не люблю сырое, что я, из Праги? Я стейки люблю, снаружи прожаренные, внутри немного сыроватые, – Аркашка сглотнул.
– Да ты голодный?
Он неопределенно пожал плечами. Кирочка Федоровна надела фартук, вытащила из холодильника мясо, которое купила, чтобы предложить орхидее. Включила газ, поставила сковородку, подождала немного, боковым взглядом почувствовала Аркашкин взгляд. Голодный, что ли, такой? Сбрызнула на дно масло и глубоко вздохнула. Очень любила она этот момент – запах огня, раскаленной сковороды и горячего масла, запах скорого ужина.
Сёмочка
Когда родился Сёмочка, мистер папа сказал миссис маме: «Его будущее в наших руках. Вот увидишь, сын не будет, как другие, болтаться говном в проруби, не будет шататься по стритам и тем более не будет подрабатывать в Макдоналдсе и пабах. Сёмочка станет воплощением американской мечты нынешних дней. Мы инвестируем в него как в самый прибыльный актив и на старости лет будем снимать огромные проценты». Миссис мама согласно кивала, поморщившись только раз – при слове «говно».
Сёмочке исполнилось четыре годика, и его отдали в лучшую частную школу штата. Мистер папа платил бешеные деньги. «Это мой лучший инвестиционный проект», – говорил он родственницам жены, с остервенением кусая кровавый бифштекс. И тётушки, с ужасом наблюдая за быстро исчезавшим во рту мясом, как китайские божки, ритмично кивали головами.
Когда Сёмочку подкосил подростковый возраст, папа и мама сели в тесном брачном кругу и выработали единственно верное решение: Сёмочка будет лойером, адвокатом. И тут же позвали на семейный совет сына. «Ты будешь защищать права людей, а права людей в Соединенных Штатах – главное и самое ценное. Ты, Сёмочка, будешь получать много бенефитов – мани, респект, статус. Ты будешь выступать во время судебных заседаний, как оратор на римских форумах. Твоё красноречие и живой ум поразят массы. Тебе будут аплодировать, твои высказывания будут печатать в газетах, к тебе в очередь выстроятся сотни американцев, чьи права попрали случай и обстоятельства». Мистер папа взволнованно вскакивал посреди обеденного зала, взмахивал руками, ходил вокруг и даже тряс в воздухе толстым котом Плюшем. Сёмочка тоскливо наблюдал за папой и возил вилкой по тарелке недоеденную котлету. «Кушай, Сёмочка, детка», – нервничала мама, пока папа набирал в лёгкие воздух, чтоб выдать очередную порцию аргументов. Устав, мистер папа тяжело садился за стол и большими глотками вливал в себя воду. Говорил: «А?», победным взором обводя тоскливое малочисленное семейство, будто тот самый лойер, блестяще исполнивший свою партию в суде.
Сёмочка пытался слабо возражать. Его не прельщала карьера адвоката. Но неприятность состояла в том, что Сёмочка сам не знал, какие интересы могли бы вынести его карьеру на горные высоты. Тем более, пока интерес у него был только один. Под кроватью у Сёмочки лежали несколько до липких дыр изученных мужских журналов. В Интернете юноша знал все бесплатные сайты, где можно до сладкого таяния внутри смотреть проморолики с чёрненькими, беленькими, толстенькими, худенькими, молоденькими и даже пожилыми тётеньками. Но как можно было об этом сказать мистеру папе? Тем более, на любое возражение тот багровел, начинал часто дышать и покрываться блестящей влагой на лбу и груди. «Деточка, не спорь», – просила мама, и Сёмочка, заглотнув разом холодную котлету, пюре и компот, уходил к себе в комнату.
Колледж и университет были закончены успешно. Мистер папа собрал даже пати, когда Сёмочка принёс домой вожделенный диплом. Папа, позволив себе лишнее, напился и смачно целовал гостей в губы, невзирая на их пол и возраст. Гости натужно улыбались и, вытираясь льняными салфетками, уходили ближе к ночи по домам.
Прошёл год. Сёмочка работал лойером в офисе, жил в собственном доме, купленном мистером папой в элитном районе Нью-Джерси. Родители каждый день праздновали удачу главного проекта своей жизни. Сёмочку уважали в офисе и давали всё более сложные дела, а значит, приток мани увеличивался. Популярность и респект уже были на подходе и, наверное, даже стояли уже вот за этим углом.
Но как-то Сёмочка пришёл домой ближе к полуночи. Элитное комьюнити района Нью-Джерси, насытившись до сытой одури солнечным благополучным днём, мирно спало. Сёмочка пихнул ботинком Плюша, бросил на пол портфель и, не раздеваясь, прошёл на кухню. Достал бутылку пива, разорвал пакетики орехов и чипсов, сел на диван. Пододвинул к себе журнал. Раскрыл его, словно дверь знакомой квартиры. Обнажённые красавицы доверчиво и кокетливо смотрели на лойера, ожидая привычных действий. Но Сёмочка быстро и невнятно думал о другом. Он взволнованно пил пиво, закусывал снеками, просыпая крошки на фототела, потом остановил взгляд на одной из моделей:
– Слушай сюда!
Он быстро кинулся к холодильнику, вытащил оттуда очередную банку пива, открыл хлопком, пролив половину на костюм, и вернулся к дивану.
– Слушай! Вот где твоя факин жизнь проходит? Где?! Скажи мне сейчас же! А-а-а… Здесь вот? – он потыкал в неопределённое место за спиной модели. – Здесь, да? Неплохо, я считаю, неплохо… Обои, окно, занавесочки. Ты тут фоткаешься, а на тебя потом дрочат похотливые мужики, так? Но ты их в глаза не видела, так?! Потому что ты бумажная, так?
Сёмочка расплескал пиво на собеседницу и заботливо вытер ей лицо галстуком.
– А ты вот теперь у меня спроси: «Семён, а чего добились вы, например? Что принесли вам десятки лет, вспаханных учебой в школе, колледже, университете? И где, например, ваша факин жизнь проходит теперь, а?» А я тебе отвечу, отвечу тебе!
Сёмочка встал, сделал шаг назад, поднял руку, как римский оратор, и начал вещать уже в своё отражение в зеркале на противоположной стене:
– В тюрьме вся моя жизнь проходит, вот где! В грёбаной вонючей тюрьме проходит моя грёбаная вонючая жизнь! К восьми утра каждого дня я уже торчу у тюремных ворот, жду, когда мне откроют гостеприимные двери. Потом полтора часа трачу на проверку и досмотр. И меня ведут… Заметь, меня ведут, да! Ведут меня в камеру! В серую холодную, фак твою растак, камеру! И там я опять жду! Спросите меня, уважаемые присяжные заседатели, – протянул руку Сёмочка в сторону кухни, – а кого именно вы ждёте, уважаемый? А я вам отвечу, высокочтимые синьоры. Я жду ублюдских, долбаных зэков. Воров, проституток, карманников, наркодилеров и – о боже! – даже убийц. Я жду, чтобы они пришли в эту комнату и хамски пообщались со мной на протяжении всего этого говенного свидания! Чтоб разговаривали со мной матом-перематом-переперематом, обливая с ног до головы грязью, соплями и блевотиной. А я сижу – такой чинный, благородный, в костюме, с умопомрачительным высшим образованием и факиным благородным воспитанием, – слушаю этот их понос, аккуратным почерком записывая в свой говенный факин блокнотик. И так четыре-пять свиданий в день…
Сёмочка развернулся к двери.
– И вот, уважаемый господин судья, ваше благородие, потом меня опять обыскивают и выпускают на волю. И уже в ночи я еду в офис и там читаю и перечитываю слова этих грёбаных представителей рода человеческого. И листаю законы, и думаю, как же помочь этим ублюдкам! Тащусь домой без ног, чтобы – что?! – он опять повернулся к зеркалу. – Совершенно верно, уважаемые, чтобы завтрашний факин день провести опять в вонючей тюрьме! И следующий день! И потом! И дальше! Чтобы вновь встречаться с этими уродами и слушать этот их отборнейший, оригинальный, окрашенный национальным колоритом мат! Так вот, знаете что, уважаемые присяжные заседатели и господин судья?!
Сёмочка широко распахнул входную дверь и закричал в уличную ночь:
– Я не сог-ла-сен! Всё! Довольно!
Сёмочка резко ослабил узел галстука, высвободился из него и швырнул в зеркало. Вышел за дверь.
– Я вас всех ненавижу, уважаемые присяжные заседатели, высочайший суд и благородные слушатели! Я вас просто не-на-ви-жу! Живите сами в своей грёбаной факин тюрьме!
Сёмочка вернулся в дом, скинул ботинки, подбежал к телевизору, включил канал рок-музыки и пустился в пляс. На завтра Сёмочка уволился и всю последующую неделю провел у проституток, где пользовался большой популярностью лойера, способного не только оплатить услуги, но и защитить их честь. Потом Сёмочка быстро и дёшево продал свой дом в Нью-Джерси, подарил кота одинокой соседке, купил билет на самолет и рванул в Европу. Миссис маме и мистеру папе он позвонил спустя неделю откуда-то из Польши, сообщив, что с ним всё в порядке и в гробу он видел их высшее образование.
Говорят, через несколько лет Сёмочка вернулся-таки в Штаты, с бородой и руками, покрытыми татуировками, и с женой-украинкой. Подрабатывал вроде барменом в ночных клубах. Обзавелся мотоциклом. Хотя, возможно, это всё наврали злые языки завистливых родственниц, поведавших эту историю. Так что высшее образование всё-таки очень важно. Оно открывает разные горизонты, заставляет работать мозг и задаваться главным вопросом: а в чем собственно смысл жизни? Твоей конкретно жизни?
Третий ряд, семнадцатое место
Я была молода и наивна и пила эту жизнь взахлеб, будто старалась насытиться впрок, на всю взрослую жизнь. Друзья и знакомые вращались вокруг меня с бешеной скоростью – это был такой пестрый, шумный, веселый круговорот. Они менялись, уходили и возвращались, быстро знакомились и расходились. А я была жутко темпераментной – каждого молодого человека рассматривала как свою потенциальную добычу, и когда он тоже был не против, охотник и его жертва совершали захватывающее дух путешествие, не задумываясь, чем оно завершится. Наши отношения могли длиться одну-две ночи, некоторые затягивались на несколько месяцев. При этом мы любили друг друга совершенно искренне, нам казалось, что именно это и есть любовь – здесь и сейчас, до криков, стонов и крови на губах. Но когда встречали кого-то еще, то влюблялись заново. Все было по-честному, мы не обманывали друг друга.
Познакомилась я как-то с одним мальчиком, который стал для меня особенным на этом безымянном аттракционе жизни. Он был из Баку, мой Давидчик. Боже, какой у нас был с ним секс! Я вспоминаю сейчас, тридцать лет спустя, и у меня до сих пор подводит живот, как на крутых «американских горках», начинают дрожать руки и пересыхает во рту. Мы с ним встречались почти каждый день, и я никогда не видела его в спокойном состоянии, даже когда он спал. Мне казалось, что с эрекцией, видимо, он родился и с нею умрет. Вот до сих пор не знаю почему – то ли я была такой сексуальной, а он влюбленный, либо это его национальная особенность, а может, природа так щедро и индивидуально наградила моего дорогого Давидчика.
Он учился в Консерватории в Москве, был очень талантливым, прям очень, до гениальности, и играл на альте. Альт – это как скрипка, только чуть больше размером и звучит пониже. Давид всегда носил альт с собой, инструмент был продолжением его сущности, личности. Он отпускал от себя альт только на время секса, но и тогда продолжал играть. У Давида было все большое, и у него были огромные руки с длинными пальцами, сильными и одновременно нежными. Когда он откладывал альт, он играл на мне. Да, он прям перебирал меня, будто я состояла из струн, и тихо приговаривал: «Верхняя дека… эсочка, а вот здесь колки… нижняя дека… возвращаемся, гриф и струны… ага, а вот и эф, эфочка, твое ре-зо-на-тор-но-е отверстие… тише-тише, там соседи, милая, они ж думают, что я музыкант… люблю твои эсы, они такие округлые, правильные, как у альта… но вот и пуговичка… ты знаешь вообще, где у тебя пуговичка, видела? А у альта ты видела пуговичку? Напомни, я покажу…» Он нажимал на потаенные точки и пуговички, будто настраивал инструмент, пробовал каждый раз новые, играя и импровизируя с мастерством гения, а я в ответ пела, урчала и солировала не хуже первой скрипки. Я даже никогда не представляла, что могу так звучать.
Давид арендовал квартиру в Москве – его родители были обеспеченными и никогда не разрешали сы́ночке ночевать в общежитии или снимать комнату с кем-то на пару. Они постоянно посылали ему деньги и еду – бабушка готовила любимые блюда для своего ненаглядного Додика.

Я приходила к нему в гости, и секс у нас начинался сразу у порога – ураганом проносился по коридору, кухне, комнате, диванам, столам и стульям, заканчиваясь в совершенно неожиданных местах. И пока я приходила в себя, пребывая почти без сознания и сотрясаясь от дрожи и конвульсий, Давид каждый раз шел на кухню и варил для меня черный кофе. Потом ставил передо мной чашечку с блюдцем, на котором лежали шаники, прикуривал сигаретку для меня, надевал черный галстук-бабочку и трогательно ласково, будто после долгой разлуки, брал альт мускулистыми, покрытыми густыми волосами руками. Он поглаживал инструмент, что-то шептал ему, будто извиняясь, и вставал напротив меня. Давид был абсолютно голый – этот большой, красивый мужчина. На нем была только бабочка, и оставалась эрекция – то ли из-за случившегося между нами секса, то ли его возбуждала будущая музыка. Давид клал подбородок на инструмент, стоял молча и неподвижно минуту и неожиданно начинал играть – что-то каждый раз потрясающее, прекрасное и волнительное. Я – тоже совершенно нагая – пила кофе, курила в сторону приоткрытого окна и уносилась с ним в другое измерение. Меня опять начинала бить лихорадка – от этих звуков, нот, чувств, пронизывающих все мое тело и душу, и от желания взлететь с ним опять на этот аттракцион сжигающей и одновременно возрождающей страсти.
Давид впервые взял в руки инструмент и надел галстук-бабочку в три года. Его еврейская бабушка сама купила маленькую бабочку и маленькую скрипку, положила в пакетик любимые печенья Додика – шаники – и отправила его на занятия. С тех пор он не представлял, как можно жить, не играя, и как можно играть, не надевая бабочки.
Мы с Давидом долго были вместе, я ходила на все его концерты в Москве, и он неизменно оставлял за мной семнадцатое место в третьем ряду. Иногда он гастролировал по другим городам, но это кресло всегда пустовало. Я могла приехать неожиданно, сорвавшись на последний поезд, уверенная, что Давид с его альтом и бабочкой непременно ждут. Со всех гастролей, из разных городов, он привозил мне подаренные поклонницами цветы и игрушки, и мы вновь и вновь купались в любви и страсти, окруженные цветами, музыкой, дымом сигарет и запахом свежесваренного кофе.
Наши дороги все-таки разошлись. У Давида были бесконечные концерты, прослушивания, конкурсы, а я вот после учебы оказалась в Штатах, вышла замуж за американца – простого, но надежного как скала. Он не умеет играть на инструментах, не варит кофе, не готовит, да и в постели не бог, но он любит меня, наших детей и делает меня счастливой каждый день – незаметно, просто и тихо.
Темперамент мой, конечно, за эти тридцать лет изменился, хотя иногда я по привычке смотрю на мужчин как на добычу. Но, признаться, все чаще в мыслях, воображении представляя, а как бы нас могло завертеть и закружить.
И вот на днях сижу я в Интернете, кручу Фейсбук сверху вниз, сверху вниз и опять наверх, лайкаю и читаю, комментирую что-то обыденное. Вдруг приходит сообщение, открываю, а там Давидчик мой. Додик. Благородный, чуть округлившийся, поседевший, но какой же красивый все-таки. Он нашел меня в Фейсбуке. Оказалось, что женат, живет в Европе и работает в одном из самых известных в мире симфонических оркестров. И прям сейчас вот находится на гастролях в Париже. И пишет мне: «Приезжай, давай увидимся, я скучал по тебе. Наш оркестр будет здесь еще долго». Я стала отнекиваться – работа, муж, быт, планы, а он настаивает: «Ты знаешь, все эти годы на моих концертах и выступлениях оркестра был аншлаг, но для меня семнадцатое место в третьем ряду всегда пустовало и ожидало тебя. Все цветы я мысленно дарил тебе и с тобой я пил кофе. Теперь вновь семнадцатое место в третьем ряду свободно, и ты можешь приехать в любой день, на любой концерт, билет на твое имя будет ждать у администратора».
Я мучилась весь день и всю ночь, потом сказала мужу, что мне надо в Париж, там концерт, какой бывает раз в тридцать лет. Я решила про себя – как скажет муж, так и будет. А он вдруг ответил: «Можно я с тобой не поеду?» Он милый, мой муж, очень. И надежный как скала. Впрочем, я это уже говорила.
И вот теперь я постоянно открываю Фейсбук и смотрю на Давида, и меня трясет только от одной мысли, что мы можем увидеться. Сохнет во рту и подводит живот. Еще неделю оркестр выступает в Париже. Не надо мне ничего говорить, я знаю все сама, я знаю, что вы думаете и о чем предупреждаете. И я еще ничего не решила, просто пока пытаюсь понять, как я без музыки жила столько лет. Как?