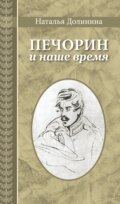Наталья Долинина
Прочитаем «Онегина» вместе
Не может и не умеет Онегин того, что умеет и может Пушкин: «задорный цех» поэтов – не для него, и дело не только в том, что у Пушкина есть талант, а у Онегина – нет. Ведь Евгений даже книги читать не способен:
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет…
Беда Онегина в том, что «труд упорный ему был тошен». В нём живы ум, совесть, мечтания, но нет у него способности действовать, быть активным, трудиться, верить людям – той самой способности, которой, наперекор своему веку, обладали Пушкин и его друзья.
Пушкин, Чаадаев, Онегин, Чацкий, Молчалин, Борис Друбецкой, Пьер Безухов, Рылеев, Кюхельбекер, Репетилов, Петя Ростов, Грибоедов – всё это люди примерно одного поколения. (Примерно – потому, что точный ровесник Онегина – один Петя Ростов; Пушкин и Кюхельбекер моложе, остальные – старше.) Но это именно и есть то поколение, которое сформировалось в первые годы царствования Александра I, – годы, наполненные либеральными обещаниями и относительной свободой после тирании Павла I. Это поколение приняло на свои плечи войну 1812 года и дало России декабристов. Почему же люди этого поколения – и реальные исторические лица, и литературные персонажи – почему они такие разные?
Мы и сейчас часто говорим о поколении в целом, совсем не учитывая того, что каждая возрастная группа людей вовсе не одинакова, что в каждом поколении есть свои борцы и мыслители, герои и философы, трусы и подлецы, карьеристы и стяжатели; есть свои яркие, выдающиеся личности – по ним-то мы чаще всего и судим обо всём поколении.
Но рядом с Чацким стоит Репетилов – пустой болтун, унижающий то дело, которому служит Чацкий. И Молчалин – сверстник Чацкого, а в то же время – враг его, может быть, опаснейший. И рядом с Пьером Безуховым живёт Николай Ростов – милый, добрый человек, средний помещик; он искренне любит Пьера и всё же, не колеблясь, обещает пойти против него с пушками, если Аракчеев пошлёт…
Это – полюсы поколения, крайние точки. Онегин не стоит ни на одном из полюсов. Он умён и честен настолько, чтобы не довольствоваться жизненными идеалами Берга или Бориса Друбецкого, чтобы не жить, как Молчалин; но у него нет того глубокого понимания жизни и людей, той силы личности, которая помогла бы ему выбрать свой путь. Так что же в таком случае привлекает Пушкина в Онегине? Только его неудовлетворённость светскими буднями? Или ещё что-то? Ответ на этот вопрос дан в строфе XLV:
…Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлаждённый ум.
Для меня главное в этом сжатом рассказе о характере – «мечтам невольная предáнность». Каким мечтам? О чём может мечтать человек, всё испробовавший и ничего для себя не нашедший?
Может быть, именно из-за этой предáнности мечтам Онегин «застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел». Он всё-таки надеялся, всё-таки верил, что есть какая-то другая жизнь – не та, которой живут Друбецкие и Скалозубы, – пусть ещё недоступная ему, но должна же она быть! Эту веру, эту надежду и ценит в нём Пушкин, а к разочарованности своего героя поэт относится сочувственно, но в то же время с иронией.
Строфа XLVI кажется, на первый взгляд, очень понятной:
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрáк невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызёт.
Всё это написано без кавычек, очень серьёзно, и неискушённый читатель совсем уж начинает думать, что сам Пушкин «не может в душе не презирать людей», но вдруг видит следующие строки:
Всё это часто придаёт
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
Мы ещё много раз увидим: «Онегина» нельзя читать бездумно – запутаешься. Пушкин многое говорит не прямо, не в лоб; он верит уму и догадливости читателя, ждёт серьёзного отношения к своим стихам. Вот и здесь вся первая половина строфы – это слова Онегина, привычные, уже стёршиеся слова, много раз им повторявшиеся, о презрении к людям, о том, что «нет очарований», – а Пушкин тонко и мудро иронизирует над этими фразами Онегина: «Всё это часто придаёт / Большую прелесть разговору» – и только! Все эти мрачные речи Онегина несерьёзны для Пушкина, он-то знает другое: и люди бывают разные, и очарования в жизни есть всегда, надо уметь их найти – вот в чём задача!
Пушкину ведь очень нелегко жить – гораздо труднее, чем Онегину. Вот они бродят вдвоём по набережной – один разочарован в жизни, нет у него ни друзей, ни любви, ни творчества, ни радости; у другого есть всё это, но нет свободы – его высылают из Петербурга, он себе не принадлежит… Онегин свободен, но зачем ему свобода? Он томится и с ней, как без неё, он несчастлив, потому что не умеет жить той жизнью, какой живёт Пушкин. А Пушкин счастлив всё равно, даже лишённый свободы, даже высланный из Петербурга: он умеет так много – и мечтать, и любить, и работать!
Онегину ничего не надо – и в этом его трагедия. Вот он получил наследство от отца – и предоставил его заимодавцам, «большой потери в том не видя». Вот он приезжает в доставшееся ему после смерти дяди имение:
Два дня ему казались новы
Уединённые поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон…
Это Пушкин так видит: «уединённые поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья…». Это для Пушкина «роща, холм и поле» – ценности громадные, а Онегину всё равно, он ясно видит, «что и в деревне скука та же»…
Мы приближаемся к концу первой главы. Состоялось наше знакомство с автором романа и с его героем. По возрасту Пушкин моложе Онегина. Но поэт – незаурядная личность, человек яркий, талантливый, и естественно, что он более мудр, чем Евгений, что внутренний мир его более глубок. Духовные поиски, метания и потери Онегина знакомы Пушкину, он прошёл через разочарование, хандру, опустошённость – и преодолел эти «болезни века». При всей симпатии автора к герою, при общем воспитании, общем для обоих недовольстве миром, в котором они живут, между Пушкиным и Онегиным есть громадная разница: они по-разному воспринимают жизнь и людей. Читая роман дальше, мы увидим, как много бед принесли Евгению его холодность, его равнодушие к людям, его тоска и опустошённость…
Конечно, когда мы говорим об Онегине, мы не можем не учитывать и не обвинять сформировавшую его среду, его век, его окружение – они отняли у Евгения умение любить жизнь и наслаждаться ею. Но, читая Пушкина, я, сегодняшний читатель, думаю о сегодняшнем дне. И вижу людей, которые скучают сегодня, когда никто не отнимает у них радостей жизни, просто они не хотят научиться ценить эти радости – научиться тому, что так великолепно умел Пушкин:
Я был рождён для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
<…>
Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Цветы, любовь, деревня – понятно: всему этому можно быть преданным душой. Но п р а з д н о с т ь? Ведь именно она опостылела Онегину, от неё бежал он из Петербурга. Как же ею может дорожить Пушкин?
Праздность, как и деятельность, бывает разная. Томительное безделье Онегина не имеет ничего общего с праздностью, знакомой Пушкину, – когда одинокие прогулки или часы, проведённые в сумерках у камина, наполнены мыслями, работой воображения, ума и сердца.
Когда душа человека пуста, ему тоскливо и скучно наедине с самим собой. В наше время на помощь такому человеку приходит техника: магнитофон, телевизор, компьютер… Но ведь всё это может надоесть точно так же, как надоели Онегину балы и карты. Спасает от тоски только душевная заполненность, богатство внутренней жизни – в неё входит и наслаждение природой, и «роскошь человеческого общения» (так говорил Экзюпери), и просто умение думать.
Конечно, жизнь яркого, думающего, значительного человека тоже не состоит из одного блаженства. Пушкин не хуже своего героя знал приступы грусти, отчаяния, тоски. Но он умел преодолеть их, победить.
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился тёмный ум.
<…>
…Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я всё грущу; но слёз уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.
Есть у человека выход из любого, самого трагического положения. Всегда остаётся с нами природа, всегда остаются друзья – если они настоящие, остаётся наш труд – если мы научили себя находить в нём радость. А это уже так много, так бесконечно много…
Пушкин кончает главу шутливо:
…Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорождённое творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!
Но в этой шутливой концовке заложен глубокий и серьёзный смысл. «Противоречий очень много» – так должны были оценить труд Пушкина литературные противники. А он мужественно шёл навстречу «кривым толкам, шуму и брани»; он строил новую литературу, а было ему, когда он кончил первую главу, двадцать пять лет!
2
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной…
Первая глава – это свободный разговор поэта с читателем, разговор дружеский, неторопливый, откровенный – с воспоминаниями, отклонениями от первоначальной темы, с шутками и намёками… Пушкин всё время стоит рядом с героем, иногда заслоняя его, иногда ненадолго скрываясь, но с первой до последней строфы он здесь, перед нами.
Вторая глава – совсем другая. Она удивительно компактна, сжата. В её сорока строфах рассказано о многих жизнях, об огромных человеческих проблемах, обо всей помещичьей деревенской жизни пушкинской поры, но сам Пушкин очень редко обращается к читателю, почти не показывается ему.
Пушкин оставил нам план романа с точным указанием, когда и где написана каждая глава, и с названиями глав, которые в этом плане именуются по-старинному «песнями». Первая песнь называется у Пушкина «Хандра»: речь в ней идёт о разочаровании, о тоске Онегина. И эпиграф соответствует пушкинскому названию главы: «И жить торопится и чувствовать спешит…» Эта строчка сразу заставляет читателя задуматься о судьбе героя. Вторую песнь Пушкин называет «Поэт». Значит, для него главный герой главы – Ленский. А эпиграф говорит совсем о другом.
Странный эпиграф у второй главы: «О rus! (Гораций). – О Русь!». По-латыни «rus» значит деревня. Казалось бы, Пушкина просто забавляет занятное совпадение: по-латыни – деревня, а по-русски – Русь. Так похоже! Но если вдуматься, станет понятно, что восклицание «О Русь!» – горькое, даже трагическое; что русская деревня совсем не вызывает у поэта сладкого умиления.
Но примемся наконец читать главу.
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок…
Прелестный? Для кого? Мы же помним, что Онегину «два дня… казались новы уединённые поля», а «на третий… его не занимали боле». Значит, это не онегинское восприятие деревни: «прелестный уголок»! И действительно, в следующих строчках мы видим:
…Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Мы только что говорили, что Пушкина не видно на страницах второй главы. Но он, оказывается, здесь, хоть его и не сразу замечаешь: он не выступает на первый план, но мы видим «деревню, где скучал Евгений», не онегинскими, а пушкинскими глазами. Что это за деревня? Она очень похожа на Михайловское:
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.
Работая в Одессе над второй главой, Пушкин ещё не знал, что скоро – не пройдёт и года – он вынужден будет поселиться в этом «прелестном уголке», сосланный, поднадзорный. Но он уже давно знал, что русская деревня далеко не так прекрасна, как кажется непосвящённому взору. Ещё в 1819 году, приехав в Михайловское во второй раз в жизни, двадцатилетний Пушкин увидел не только прелесть русской природы:
…Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде Невежества губительный Позор.
Не видя слёз, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
(«Деревня». 1819 г.)
Вот эти страшные контрасты русской деревни XIX века сохранились в уме и сердце поэта. Не случайно уже в первой строфе слышна еле заметная ирония, когда Пушкин говорит о «прелестном уголке». Чем дальше описывает он деревню, тем слышнее ирония. Дом дядюшки Онегина назван «почтенным замком», хотя обставлен он весьма скромно: «два шкафа, стол, диван пуховый…». Слово «замок» вызывает мысли о феодале, которому подчинены безропотные вассалы, о несправедливости, царящей там, где властвует «барство дикое».
Прочтя всего две строфы, читатель начинает понимать горечь эпиграфа: «О Русь!» Тяжело мыслящему, благородному человеку жить на Руси в пушкинскую эпоху.
Следующая, третья строфа рассказывает о жизни дяди Онегина, который
…Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
В двух строчках – целая жизнь, и какой невыразимой скукой повеяло от этой жизни: сорок лет без дела в глухой деревне!
О дяде Онегина не случайно рассказано именно здесь: попав в деревню, Евгений имеет полную возможность повторить дядину жизнь – что же ему ещё остаётся делать, как не браниться с ключницей и смотреть в окно? Но Онегин на такое не способен.
Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком лёгким заменил;
И раб судьбу благословил.
Среди умных, образованных, прогрессивно мыслящих людей, знакомых Пушкину, был Николай Иванович Тургенев. Ещё в 1818 году его брат Александр Иванович писал другу Пушкина поэту П. А. Вяземскому: «Брат возвратился из деревни и тебе кланяется. Он привёл там в действие либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшил через то доходы наши. Но поступил справедливо, следовательно, и согласно с нашею пользою». Братья Тургеневы были не одиноки в своём либерализме. Мы знаем многих будущих декабристов, стремившихся облегчить положение крестьян, – даже в ущерб себе. Пушкин явно сочувствует и своим друзьям, и своему герою. Недаром он находит такое резкое, страшное слово: «и раб судьбу благословил». Но Пушкин знает и другое:
Зато в углу своём надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.
Тот же Н. И. Тургенев пишет по этому поводу в своём дневнике: «Со всех сторон все на нас вооружились, одержимые хамобесием… о нас разумеет эта публика как о людях опасных, о якобинцах».
Трудно Онегину в деревне – потому трудно, что он умнее, честнее тех людей, которые окружают его. И ему эти люди постылы, и он им враждебен; они злословят о нём:
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьёт одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.
(Курсив Пушкина.)
Эти обвинения нам знакомы: «Шампанское стаканами тянул. – Бутылками-с, и пребольшими. – Нет-с, бочками сороковыми». Так рассуждали о Чацком гости Фамусова. В «Горе от ума» глухая старуха графиня-бабушка не услышала ни звука из того, что ей рассказал Загорецкий о Чацком, но слова нашла такие же, как соседи Онегина: «Что? К фармазонам в клоб? Пошёл он в бусурманы?» Мы хорошо знаем ещё одного «фармазона»: это Пьер Безухов из «Войны и мира». Он ведь одно время увлекался обществом франк-масонов (полуграмотные помещики исказили это слово и получилось: фармазоны). Сам Пушкин во время южной ссылки примыкал к кишинёвской масонской организации. Среди масонов было немало передовых людей, будущих декабристов, потому их так ненавидели гости Фамусова и соседи Онегина.
Читая первую главу, мы сравнивали Онегина с Пушкиным, с Чаадаевым, Кавериным – с умнейшими, выдающимися людьми своей эпохи. Евгений не таков, как эти люди, ему недоступны их знания, их таланты, их умение понимать жизнь, действовать. Но он много выше среднего человека своего круга; в этом мы убеждаемся, читая вторую главу. И этого-то не прощает ему его круг.
За неделю до того, как вчерне закончить вторую главу, Пушкин писал А. И. Тургеневу: «…Я на досуге пишу новую поэму Евгений Онегин, где захлёбываюсь желчью». (Выделено Пушкиным.) За месяц до этого, в разгар работы над второй главой, Пушкин пишет в другом письме – П. А. Вяземскому: «…О печати и думать нечего, пишу спустя рукава. Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия – лучше об ней и не думать».
Эти письма были написаны одновременно со второй главой. Даже те пять строф, которые мы уже прочли, вовсе не безобидны. Онегин ввёл в своей деревне новые порядки, «чтоб только время проводить», но в глазах соседей он тем не менее не просто «чудак», а «опаснейший», да ещё и не единственный в своём роде: не один молодой дворянин вёл себя так, как он, и это вызывало ненависть мира Молчалиных и Загорецких. А Пушкин, будто бы и не показываясь на страницах романа, на самом деле явно симпатизирует Онегину и «захлёбывается желчью» при мысли о его недоброжелателях.
Какими бы ни были разными Пушкин и Онегин, они из одного лагеря, их объединяет недовольство тем, как устроена российская действительность. Умный, насмешливый, зоркий Пушкин первой главы остался таким же и во второй, но теперь читатель узнал о нём больше. Перед нами – гражданин, человек, неравнодушный к судьбе своей страны; ссыльный поэт продолжает думать и действовать так, как действуют поэты – словом. Короткий рассказ о жизни Онегина в деревне заключает в себе мысли и наблюдения, близкие к мыслям и наблюдениям декабристов.
Когда на сцене появляется Ленский, мы знакомимся с ещё одним типом русского молодого человека пушкинской поры.
…С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный…
В Гёттингенском университете в Германии воспитывалось немало русских юношей – и все они были известны своими «вольнолюбивыми мечтами». «Дух пылкий и довольно странный» был у другого «поклонника Канта и поэта» – Кюхельбекера, того самого Кюхли, которого так дразнил в детстве и так любил всю жизнь Пушкин.
С Ленским в музыку пушкинских стихов врывается совсем новая мелодия – трогательно-нежная и немножко насмешливая.
От хЛадного разврата света
Ещё Увянуть не Успев,
Его дУша была согрета
Приветом дрУга, Лаской дев.
Он сердцем миЛый был невежда,
Его ЛеЛеяЛа надежда…
(Выделено мною. – Н. Д.)
Вся седьмая строфа построена на повторении звуков Л-У-У-У-У-Л-У-Л… И слова-то какие: «увянуть», «душа», «лаской», «милый», «лелеяла»!
Когда Пушкин в «Полтаве» описывает бой, у него звучат Ш, Р, Ж: «швед, русский колет, рубит, режет…» Во вступлении к «Медному всаднику» слышен пир: «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» (Ш-П-П-П-Ш-П). А Ленского сопровождает мягкая, негромкая музыка: нежные, возвышенные слова, плавные звуки Л-У создают ощущение лёгкой грусти, заставляют полюбить Ленского и даже проникнуться к нему жалостью, хотя оснований для жалости пока нет.