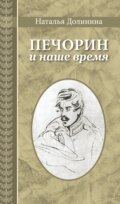Наталья Долинина
Доживем до понедельника
– Ладно, не люби меня, но дай отпуск, – гнул свое Мельников.
– Не дам, – жестко отрезал директор. – На тахте – оно спокойней, конечно… И честность – под подушку, чтоб не запылилась!
– Про тахту – глупо: у меня бессонница. А что касается честности – да, она гигиены требует, ничего странного. Как зубы, скажем. Иначе – разрушается помаленьку и болит, ноет… Не ощущал?
– Что? Зубы-то? – запутался Николай Борисович. – Да нет, уже нет… Могу дать хорошего протезиста – надо?
– Ты подменил тему, Коля, – засмеялся Мельников. – Сплутовал!
– Слушай, отстань! Седой мужик, пора понимать: твоими принципами не пообедаешь, не поправишь здоровья, не согреешься…
– Конечно. Это тебе не шашлык, не витамин бэ двенадцать, не грелка…
Мельников прошелся по кабинету, взял с полки какое-то пособие, полистал.
– Ты никогда не размышлял о великой роли бумаги?
– Бумаги?
– Да! Надо отдать ей должное: все выдерживает! Можно написать на ней: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», а можно – кляузу на соседа… Можно взять мою диссертацию, изъять один факт (один из ключевых, правда), изменить одну трактовочку – и действительно окажется, что для нее «самое время»! Да ведь противно… Души-то у нас не бумажные, Коля! И уж во всяком случае, у ребят не должны они стать бумажными! – грохотал Мельников. – Вот учебник этого года! Этого!..
Николай Борисович поднял на него унылые глаза:
– Да чего ты петушишься? Кто с тобой спорит?
– Никто. Все согласны. Благодать!..
* * *
Светлана Михайловна сидела в учительской одна, как всегда склонившись над ученическими работами. Тихо вошла Наташа, сунула классный журнал в отведенную ему щель фанерного шкафчика и присела на стул. Внимательно посмотрела на нее Светлана Михайловна. И сказала:
– Хочешь посмотреть, как меня сегодня порадовали? – Она перебросила на край стола листки сочинения…
Наташа прочитала и не смогла удержать восхищенной улыбки:
– Интересно!
– Еще бы, – с печальной язвительностью кивнула Светлана Михайловна: она ждала такой реакции. – Куда уж интересней: душевный стриптиз!
– Я так не думаю.
(Теперь-то уж никаких сомнений: это они работу Нади Огарышевой обсуждали…)
– И не надо! Разный у нас с тобой опыт, подходы разные… принципы… – словно бы согласилась Светлана Михайловна и усмешливо подытожила: – А цель одна…
Потом протянула еще один листок, где была та единственная, знакомая нам фраза («Счастье – это когда…»). И пока Наташа вникала в нее, ветеранша рассматривала свою бывшую ученицу со всевидящим женским пристрастием… А потом объявила:
– Счастливая ты, Наташа…
– Я? – Наташа усмехнулась печально. – О да… дальше некуда… Вы знаете…
– Знаю, девочка, – перебила Светлана Михайловна, словно испугавшись возможных ее откровений. И обе женщины замолчали, обе отвели глаза. А потом с грубоватой простотой Светлана Михайловна такое сказала, что пришел Наташин черед испугаться:
– Только с ребеночком не затягивай, у учителей это всегда проблема. Эта скороспелка, – она взяла из Наташиных рук листочки Нади Огарышевой, – в общем-то, права, хотя не ее ума это дело.
Наташа смотрела на Светлану Михайловну растерянно, земля уходила у нее из-под ног…
– Да-да, – горько скривила губы та, – а то придется разбираться только в чужом счастье…
И стало видно вдруг, что у нее уже дряблая кожа на шее, и что недавно она плакала, и что признания эти оплачены такой ценой, о которой Наташа не имеет понятия…
– Тут оно у меня двадцати четырех сортов, на любой вкус, – показала Светлана Михайловна на сочинения. – Два Базарова, одна Катерина… А все остальное – о счастье…
Тихо было в учительской и пусто.
– Ты иди, – сказала Светлана Михайловна Наташе.
* * *
Люди, давно и близко знакомые, узнали бы невероятные вещи друг о друге, если бы могли… поменяться сновидениями!
Николаю Борисовичу, директору школы, часто снилось, как в пятилетнем возрасте его покусали пчелы. Как бежал он от них, беззвучно вопя, а за ним гналась живая, яростная мочалка – почти такая же, как у Чуковского в «Мойдодыре», только ее составляли пчелы! Маленький директор бежал к маме, но попадал в свой взрослый кабинет… Там сидел весь педсовет, и вот, увидев зареванного, на глазах опухающего дошколенка, учителя начинали утешать его, дуть на укушенные места, совать апельсины и конфеты; они позвали школьную медсестру, та затеяла примочки, а Мельников будто бы говорил:
– Терпи, Коленька. Спартанцы еще и не такое терпели… Рассказать тебе про спартанского царя Леонида?
Не очень понятно, к чему это написалось… Не затем, во всяком случае, чтобы буквально снимать это все в кино! Тем более, что часто и справедливо сны советуют понимать наоборот. Вот и здесь перевертыш: хотя своих «пчел» и «укусов» хватало в жизни обоих, но в ту пятницу именно Мельников устал отбиваться от них. Без церемоний расхаживал он по этому начальственному кабинету, погруженный в себя и в свое раздражение. Не столько просил, сколько требовал помощи!
А директор, не умея помочь, просто маялся заодно с ним. Чем поможешь в такой туманной беде? Интеллигентская она какая-то, странная, ускользающая от определений… Многие припечатали бы: с жиру бесится! Подмывает издевательски цитировать «Гамлета» и «Горе от ума»! Но Илью так не отрезвить: он легко подомнет Николая Борисовича на этом поле, выиграет по очкам. А попутно договорится до гораздо худшей, до реальной беды! Черт… Не толковать же с ним о спартанцах, в самом деле, об этих античных чемпионах выносливости?
Шляпа Николая Борисовича брошена на диван, а хозяин ее – с голодухи, видимо, – настроен сейчас элегически.
– Историк! – произнес он с едкой усмешкой. – Какой я историк? Я завхоз, Илья… Вот достану новое оборудование для мастерских – радуюсь. Кондиционеры выбью – горжусь! Иногда тоже так устанешь… Мало мы друг о друге думаем. Вот простая ведь: завтра – двадцать лет, как у нас работает Светлана Михайловна. Двадцать лет человек днюет и ночует здесь, вкалывает за себя и за других… Думаешь, почесался кто-нибудь, вспомнил?
– Ну так соберем по трешке… и купим ей… крокодила, – бесстрастно предложил Мельников.
– У тебя даже шутки принципиальные. И ты мне с этим юмором – надоел! – сказал Николай Борисович, возобновляя свое облачение, чтобы уйти, наконец.
– Вот и отлично… И дай мне отпуск.
– Не дам! – заорал директор.
– На три недели. А если нельзя – освобождай совсем, к чертовой матери!
– Ах, вот как ты заговорил… Куда ж ты пойдешь, интересно? Крыжовник выращивать? Мемуары писать?
– Пойду в музей. Экскурсоводом.
– А ты что думаешь, в музеях экспонаты не меняются? Или трактовки?
– Я не думаю…
– Какого ж рожна…
– Там меня слушают случайные люди… Раз в жизни придут и уйдут. А здесь…
– Меня твои объяснения не устраивают!
– А учитель, который перестал быть учителем, тебя устраивает?!
– Ну-ну-ну… Как это перестал?
– Очень просто. Сеет «разумное, доброе, вечное», а вырастает белена с чертополохом.
– Так не бывает. Не то сеет, стало быть.
Мельников неожиданно согласился:
– Точно! Или вовсе не сеет, только делает вид, по инерции… А лукошко давно уж опустело…
– Ну, знаешь… Давай без аллегорий. Мура это все, Илюша. Кто же у нас учитель, если не ты? И кто же ты, если не учитель?
Мельников поднял на него измученные глаза и сказал тихо:
– Отпусти меня, Николай! Честное слово… а? Могут, в конце концов, быть личные причины?
И Николай Борисович сдался. Оттягивая узел галстука вниз, он выругался и крикнул:
– Пиши свое заявление… Ступай в отпуск, в музей… в цирк! Куда угодно…
Мельников, ссутулясь, вышел из кабинета – и увидел Наташу. Она сидела в маленькой полуприемной-полуканцелярии и ждала. Кого?
Вслед за Мельниковым, еще ничего не успевшим сказать, вышел директор.
– Вы ко мне?
– Нет.
Заинтригованный Николай Борисович перевел взгляд с Наташи на Мельникова и обратно. Как ни устал Эн Бэ от этих бурных прений, а все же отметил с удовольствием, что новая англичаночка, независимо даже от ее деловых качеств, украшает собой школу.
Всем почему-то стало неловко.
Эн Бэ вдруг достал из портфеля коробку шоколадных конфет, зубами (руки были заняты) развязал шелковый бантик на ней и галантно предложил:
– Угощайтесь.
Каждый из троих взял по конфете.
Директор еще постоял в некоторой задумчивости, покрутил головой и поведал Наташе:
– Честно говоря, жрать хочется! Всего доброго…
А Мельникову показал кулак и ушел.
– Пойдемте отсюда, – спокойно сказала Наташа и подала Илье Семеновичу его портфель, который она не забыла захватить и с неловкостью прятала за спиной. Из школы вышли молча. Ему надо было собраться с мыслями, а она не спешила расспрашивать, спасибо ей.
Во дворе Мельников глубоко втянул в себя воздух и вслух порадовался:
– А здорово, что нет дождя.
Под дворовой аркой они опять увидели Николая Борисовича, которого держал за пуговицу человек в макинтоше и с планшеткой – видимо, прораб. Он что-то напористо толковал про подводку газа и убеждал директора пойти куда-то, чтобы лично убедиться в его, прораба, правоте.
Мельников и Наташа прошли мимо них. Взглядом страждущим и завистливым проводил их Эн Бэ.
* * *
В этот час в школе задерживались после уроков несколько человек из девятого «В».
– Ребята, ну давайте же поговорим! – убеждала их изо всех сил комсорг Света Демидова. – Сыромятников, или выйди, или сядь по-человечески.
Сыромятников сидел на парте верхом и, отбивая ритм на днище перевернутого стула, исполнял припев подхваченной где-то песенки:
Бабка!
Добра ты, но стара.
Бабка!
В утиль тебе пора!
По науке строгой
Создан белый свет.
Бабка,
ну, ей-богу,
никакого Бога нет!
Костя Батищев и Рита тихонько смеялись на предпоследней парте у окна. Он достал из портфеля человечка, сделанного из диодов и триодов, и заставлял его потешать Риту.
Черевичкина ела свои бутерброды; Михейцев возился с протекающей авторучкой; Надя Огарышева и Генка сидели порознь, одинаково хмурые.
– Ну что, мне больше всех надо, что ли? – отчаивалась Света. – Сами же кричали, что скучно, что никакой работы не ведем… Ну, предлагайте!
– Записывай! – прокричал ей Костя. – Мероприятие первое: все идем к Надьке Огарышевой… на крестины!
Надя с ненавистью посмотрела на него, схватила в охапку свой портфельчик и выбежала.
– Взбесилась она, что ли… Шуток не понимает… – в тишине огорченно и недоумевающе сказал Костя.
– Ну зачем? – вступился за Надю Михейцев. – Человеку и так сегодня досталось зря…
– А пусть не лезет со своей откровенностью! – отрезал Костя. – Мало ли что у кого за душой, – зачем это все выкладывать в сочинении? Счастье на отметку! Бред…
– А сам ты что написал? – спросил Генка угрюмо.
– Я-то? А я вообще не лез в эту тему, она мне до фонаря! Я тихо-мирно писал про Базарова…
– По науке строгой
Создан белый свет.
Бабка,
Ну, ей-богу,
Никакого Бога нет! —
прицепилась эта песенка к Сыромятникову и не хотела отстать.
– Кончай, – сказал ему Генка. – Батищев прав: из-за этого сочинения одни получились дураками, другие – паскудами…
– Почему? – удивилась Черевичкина. – Чего ты ругаешься-то?
– Ну мы же не для этого собрались, Шестопал! – продолжала метаться Света Демидова. – Не для этого!
– Сядь, Света, – морщась, попросил Генка. – Ты хороший человек, но ты сядь… Я теперь все понял: кто писал искренне, как Надька, – оказался в дураках, об них будут ноги вытирать… Кто врал, работал по принципу У-два – тот ханжа, «редиска» и паскуда. Вот и все!
– Что значит У-два? – заинтересовалась Рита.
– Первое «у» – угадать, второе «у» – угодить… Когда чужие мысли, аккуратные цитатки, дома подготовленные, и пять баллов, считай, заработал… Есть у нас такие, Эллочка? – почему-то он повернулся к Черевичкиной, которая мучительно покраснела:
– Я не знаю… Наверно…
– Что ж ты предлагаешь? – обеспокоенно спросила Света.
– Разойтись, – усмехнулся Генка. – Все уже ясно, все счастливы… – Видно было: с головой накрывала его печаль оттого, что к таким и только таким оценкам с неизбежностью подводила жизнь…
Черевичкина спрятала в полиэтиленовый мешочек недоеденный бутерброд и стала собираться.
Михейцев был задумчив.
Костя тихонько уговаривал Риту идти с ним куда-то, она не то кокетничала, не то действительно не хотела, – слов не было слышно.
А Света Демидова вдруг объявила:
– Знаете что? Переизбирайте меня. Не хочу больше, не могу и не буду!.. Ну не знаю я сама, чего предлагать…
Сыромятников спел персонально припев про бабку: что, хотя она и добра, самое время ее – «в утиль»… А потом у него и для Риты с Костей нашлось что спеть; он выдал этот куплет (из той же, похоже, песенки), ласково следя за ними, за их переговорами:
Выйду я с милой гулять за околицу,
В поле запутаем след…
Мы согрешим, —
Ну а бабка помолится
Богу, которого нет.
– Самородок… – глядя сквозь него, сказала Рита.
* * *
Мельников и Наташа шли по улице. Она не поехала на своем автобусе, а он не пошел домой. Не наметив себе никакой цели, не отмерив регламента, они просто шли рядом, бессознательно минуя большие многолюдные магистрали, а в остальном им было все равно, куда идти.
Была пятница. Люди кончили работу. С погодой повезло: небо освободилось от тяжелых, низких туч, вышло предвечернее солнышко, чтобы скупо побаловать город, приунывший от дождей.
Может быть, не надо нам слышать, о чем говорили, гуляя, Наташа и Мельников? Не потому, что это нескромно, а потому, что это был тот случай, когда слова первостепенного значения не имеют. И есть вещи, догадываться о которых интереснее даже, чем узнавать впрямую. Скажем только, что идиллии не получалось, что для этого мельниковская манера общаться слишком изобиловала колючками… Трудный он все-таки человек, для самого себя трудный… – думалось Наташе. Или это оттого, что сегодня – его черная пятница, когда
Видно, что-то случилось
С машиной, отмеривающей неудачи.
Что-то сломалось, —
Они посыпались на него так,
Как не сыпались никогда.
Скрытая камера – неподкупный свидетель.
Она расскажет о том, как эти двое не попали в ресторан с неизменной табличкой «Мест нет», и хорошо, что не попали: наличность в мельниковском бумажнике развернуться не позволяла, мог бы выйти конфуз… А потом они ели пирожки и яблоки во дворике бездействующей церкви. Оттуда их скоро прогнали, впрочем, четыре старухи, вечно мобилизованные на изгнание дьявола и одоление соблазна; не нашлось у двух учителей ясного ответа на бдительный и колючий их вопрос: «А вам тут чаво?»
Потом они шли по какому-то парку и шуршали прелыми листьями… Дошли до Наташиного дома; она показала ему свои окна на шестом этаже… И они уже попрощались, она вошла в подъезд, но бегом вернулась и, находясь под своими окнами, звонила из автоматной будки маме, чтоб та не волновалась и ждала ее не скоро.
А потом он повел ее к букинистическому магазину, возле которого, по старой традиции и вопреки милиции, колобродил чернокнижный рынок. Здесь у Наташи зарябило в глазах от пестроты типов и страстей. А Мельников уверенно протолкался внутрь, в полуподвальный магазинчик; там главным продавцом был старый знакомый Мельникова – лысый, похожий на печального сатира, в профиль – еще и на больную птицу. Он спросил:
– О! Кто вам сказал, что сегодня я что-то имею для вас?
– Интуиция, Яков Давыдович, больше некому… И потом, давно не заглядывал… Как здоровье ваше?
– Мальчик, – не ответив, старик переключился на юного покупателя, который почти лег на прилавок, – ты слишком шумно и жадно дышишь. – Поднял перекладину. – Иди, смотри здесь…
– А можно?
– Я же говорю, ну! Так вот, дорогой товарищ Мельников. Как здоровье, вы спросили? Плохо, а что? На эту тему есть два анекдота, но я не хочу отвлекаться. Пробейте сорок шесть семьдесят, давайте мне чек, потом мы будем разговаривать…
– А книга, Яков Давыдыч? – засмеялся Мельников. – Раньше я хочу видеть книгу…
– Нет. – Он глазами показал; не та обстановка, чтобы демонстрировать такой товар. – Нет. Я лучше знаю, что я говорю. Сорок шесть семьдесят в кассу – и не будем один другого нервировать, я же весь день на ногах!
Илья Семенович переглянулся с Наташей. Стало понятно: о безусловной ценности идет речь, придется верить на слово… Вот только найдется ли у него эта сумма? Наташа успокоительно помахала своим портмоне и заняла очередь в кассу, а Мельникова этот букинист придержал:
– Минуточку! Это ваша жена?
– Нет, что вы…
– Еще нет или совсем нет? Я извиняюсь за мои вопросы, но такие девушки теперь – не на каждом углу…
– Факт, – охотно согласился Мельников и боком ретировался к кассе. – Значит, сорок шесть семьдесят?
…Потом он, счастливый, прижимал завернутую книгу к себе и тряс руку Якова Давыдовича (тот объявил, наконец, шепотом заговорщика, что это – эккермановские «Разговоры с Гёте»! «Academia», 1934 год!).
– Мне ее один писатель заказывал… большая шишка, между прочим. Но расхотелось звонить ему… Последний его роман – я не сужу, кто я такой, чтобы судить? Но, клянусь вам, приличные люди не позволяют себе такую туфту! Или – они уже неприличные… Я подумал: «Нет, Яша, ни Эккерман, ни тем более Гёте уходить в такие руки не хотят…» А тут – вы как раз, и – с такой девушкой. Она изумительно похожа на мою дочь! Всего хорошего вам, – обратился он к ней напрямик. – Заходите с товарищем Мельниковым…
Распрощались.
Но, чудной старик, он не дал им уйти просто так.
– Минуточку! Меня тут не будет с первого ноября. Но мы все утрясем: с понедельника будет Зиночка, это мой кадр, неплохо обученный; если я смогу ей вас показать, – она уже будет знать ваше лицо и оставлять что-то хорошее, что вас интересует…
– Спасибо. А вы, значит, на пенсию?
– Я – в больницу, дорогой. Вы что хотели? – обратился он к военному с чеком.
– Вон, желтенькую. «Бумеранг не возвращается».
– Ради бога. Вы хотите убить время? Вы его убьете. Завернуть?
– У вас что-нибудь серьезное, Яков Давыдович? – спросил Мельников, снова поймав его беспокойный птичий взгляд.
– Слушайте, семьдесят один год – это хороший отрезок времени? Да? Я тоже так думаю. – Он сердито отложил это число на счетах. – И довольно! – замахал он руками, не допуская возражений, и полез на стремянку доставать для одной дамы «Семью Тибо». Там, наверху, он оглянулся – еще раз посмотреть на Наташу:
– Ах! Чтобы такое сходство…
* * *
Ребята начали расходиться, но груз нерешенного, недосказанного словно не пускал домой, и они тащились по коридору медленно, неохотно отдирая от пола подошвы…
– Ге-ен! – позвал Костя Генку, который пошел не со всеми, а к лестнице другого крыла. – Гена-цвале!
Генка остановился. Рита и Костя подошли к нему.
– Ну чего ты так переживаешь? – спросила его Рита, ласково, как ему показалось.
– Не стоит, Ген, – поддержал ее Костя. – Теорию выеденного яйца не знаешь? Через нее и смотри на все, помогает.
– Попробую. – Генка хотел идти дальше, но Костя попридержал его:
– Слушай, пошли все ко мне. Я магнитофончик кончаю – поможешь монтировать. А?
– Не хочется.
– Накормлю! И найдется бутылка сухого. Думай.
– Нет, я домой.
– А я знаю, чего тебе хочется, – прищурился Костя.
– Ну?
– Чтоб я сейчас отчалил, а Ритка осталась с тобой. Угадал? – И, поняв по отвердению Генкиных скул, что угадал, Костя засмеялся, довольный. – Так это можно, мы люди не жадные, – правда, Рит?
Он испытующе глядел по очереди – то в Риткины, веселые и зеленые, то в темные недружелюбные Генкины глаза. На Риту напал приступ хохота – она так и заливалась:
– Генка, соглашайся, а то он раздумает!..
– Только, конечно, одно условие: в подъезды не заходить и грабки не распускать. Идет? Погуляете, поговорите… А можете – в кино. Ну чего молчишь?
Генка стоял, кривил губы и наконец выдавил нелепый ответ:
– А у меня денег нет.
– И не надо, зачем? – удивилась Рита. – У меня трешка с мелочью.
– Нет. Я ему должен… за прокат. Сколько ты берешь в час, Костя? – медленно, зло и тихо проговорил Генка.
Рита задохнулась:
– Ну, знаешь! – и хлестанула его по лицу. – Сволочь! Псих… Не подходи лучше!
– Да-а… – протянул Костя Батищев ошеломленно. – За такие шутки это еще мало… В другой раз так клюв начистят… Лечиться тебе надо, Шестопал! У тебя, как у всех коротышек, больное самолюбие!
Слезы у Риты не брызнули, но покраснели лоб и нос, она дунула вверх, прогоняя светлую свою прядь, – и зацокала каблучками вниз по лестнице.
Генка, привалившись к стене, глядел в потолок.
– Ты, Геночка, удара держать не можешь. Так учись проигрывать – чтоб лица хотя бы не терять… А то ведь противно!
С брезгливой досадой Костя пнул ногой Генкин портфель, стоящий на полу. И припустился догонять Риту.
…Когда Генка шел не спеша в сторону спортзала, он обнаружил, что и Косте влетело теперь: Рита уединилась там, в пустом неосвещенном зале, ее «телохранитель» пытался ее оттуда извлечь, рвал на себя дверь… Дверь-то поддалась, а Рита – нет:
– И ты хочешь по морде? Могу и тебе! – крикнула она в нешуточном гневе. И дверью перед его носом – хлоп!
Издали Костя поглядел на Генку, плюнул и ушел.
…Выключатель спортзала был снаружи. Генка после некоторого колебания зажег для Риты свет. Она выглянула и погасила – из принципа. Он зажег опять. Она опять погасила.
Настроение по обе стороны двери было одинаково невеселое. Рита придвинула к двери «козла», села на него для прочности, в полумраке напевая: «Я ехала домой… Я думала о вас… Печальна мысль моя и путалась, и рвалась…»
А потом она услышала вдруг стихи!
…От книги странствий я не ждал обмана,
Я верил, что в какой-нибудь главе
Он выступит навстречу из тумана,
Твой берег в невесомой синеве… —
читал ей с той стороны Генкин голос.
Но есть ошибка в курсе корабля!
С недавних пор я это ясно вижу:
Стремительно вращается Земля,
А мы с тобой не делаемся ближе…
Молчание.
– Еще… – сказала Рита тихо, но повелительно.
* * *
А Наташа и Мельников снова шли – уже среди вечерней толпы, на фоне освещенных витрин… Для большинства уже началась нерабочая суббота. А эти двое вели себя так, будто и у них выходной завтра. Очень основательно оттоптали ноги себе!
С другой стороны улицы радостно скандировали:
– На! – та! – ша!
Наташа оглянулась: у Театра оперетты стояли пятеро молодых, веселых, хорошо одетых людей. Две девушки, три парня.
Наташа, блестя глазами, извинилась перед Мельниковым:
– Я сейчас…
И перебежала на другую сторону.
Мельников стоял, курил, смотрел.
Наташа оживленно болтала с институтскими однокашниками. Хохот. Расспросы. Она со своими ответами тянула, была уклончива, а им не терпелось выдать два-три «блока информации» самого неотложного свойства. Кое-что касалось ее близко… (напрасно она делает старательно-отрешенное лицо при упоминании отдельных имен). А самое было бы клевое – сманить Наташу с собой в один гостеприимный дом, где наверняка будет здорово, где ей будут рады, но есть помеха – «дед», седой неведомый им очкарик на противоположной стороне…
Остановился троллейбус и загородил Мельникова от Наташи.
Когда она, что-то объясняя друзьям, поворачивается в его сторону, троллейбуса уже нет, но нет и Мельникова.
Еще не веря, смотрит Наташа туда, где оставила его…
– Что случилось, Наташа? – спрашивает один из парней, заметив ее потухший взгляд, ее полуоткрытый рот…
* * *
В спортзале они теперь были вдвоем – Рита и Генка. Кажется, он уже прощен – благодаря стихам.
Рита соскочила с «козла».
– Ты стал лучше писать, – заключает она. – Более художественно. – И берет портфель. – Надо идти. Сейчас притащится кто-нибудь, раскричится…
– В школе нет никого.
– Совсем? Так не бывает, даже ночью кто-то есть.
Оба прислушались. Похоже, что и впрямь все ушли… Тихо. Нет, что-то крикнула одна нянечка другой – и опять тихо…
– А ты представь, что, кроме нас, никого… – сказал Генка, сидя на брусьях: драма короткого роста всегда тянула его повыше…
Склонив голову на плечо и щурясь, Рита сказала:
– Пожалуйста, не надейся, что я угрелась и разомлела от твоих стихов!
– Я не надеюсь, – глухо пробубнил Генка. – Я не такой утопист! – Вдруг он покраснел и сформулировал такую гипотезу: – Стишки в твою честь – это ведь обещание только? Вроде аванса? После-то – духи будут из Парижа, чулочки, тряпки… может, и соболя! Только уже не от губошлепов – от настоящих поклонников? Но которых и благодарить надо… по-настоящему?
– За соболя-то! Еще бы! – Она хохотала. Веселила мрачная серьезность, с которой он все это прогнозировал! Он чуть ли не худел на глазах, воображая себе ту «наклонную плоскость», на которой она вот-вот окажется! Умора…
– Ты, кажется, пугаешь меня? Что-то страшное придется мне делать? Аморальное?! Чего и выговорить нельзя?! Мамочки… Или страх только в том, что все это – не с тобой?!
…Похоже, он оскорбил ее, недопонимая этого? Иначе – с чего бы ей отвечать сволочизмом таким? Да, видимо, несколько туманной была для него та «наклонная плоскость», оттого он и перегнул… Но вот ее тон уже не хлесткий, а вразумляющий:
– Мое дело, Геночка, предупредить: у нас с тобой никогда ничего не получится… Ты для меня инфантилен, наверное. Маловат. Дело не в росте, не думай… нет, в целом как-то. Я такой в седьмом классе была, как ты сейчас!..
Внезапно Генка весь напрягся и объявил:
– Хочешь правду? Умом я ведь знаю, что ты человек – так себе. Не «луч света в темном царстве»…
– Скажите пожалуйста! Сразу мстишь, да? – вспыхнула Рита.
– …Я это знаю, – продолжал Генка, щурясь, – только стараюсь это не учитывать. Душа – она, знаешь, сама вырабатывает себе защитную тактику… Просто – чтобы не накалываться до кровянки каждый день…
– Что-что?
– Не поймешь ты, к сожалению. Я и сам только позавчера это понял…
Он отвернулся и, казалось, весь был поглощен нелегкой задачей: как с брусьев перебраться по подоконнику до колец. С брусьев – потому что допрыгнуть до них с земли он не смог бы ни за что. Даже ради нее, наверное…
Вышло! Повис. Подтянулся.
– Ну и что же ты там понял… позавчера?
Она была задета и плохо это скрывала.
– Пожалуйста! – Изо всех сил Генка старался не пыхтеть, не болтаться, а проявить, наоборот, изящество и легкость. – В общем, так. Я считаю… что человеку необходимо состояние влюбленности! В кого-нибудь или во что-нибудь. Всегда, всю дорогу… – Он уже побелел от напряжения, но голос звучал неплохо, твердо: – Иначе неинтересно жить. Мне самое легкое влюбиться в тебя. На безрыбье…
– И тебе не важно, как я к тебе отношусь? – спросила снизу Рита, сбитая с толку.
– He-а! Это дела не меняет… – со злым и шалым торжеством врал Генка, добивая поскучневшую Риту. – Была бы эта самая пружина внутри! Так что можешь считать, что я влюблен не в тебя… – Тут ему показалось, что самое время красиво спрыгнуть. Вышло! – …не в тебя, а, допустим, в Черевичкину. Какая разница!
Вдруг Генка против воли опустился на мат, скривился весь – дикая боль в плечевых мышцах мстила ему за эти эффекты на кольцах.
– Что, стихи небось легче писать? – саркастически улыбнулась Рита. – Вот и посвящай их теперь Черевичкиной! А то она, бедняга, все поправляется, а для кого – неизвестно… Good luck![4]
Она ушла.
Генка хмуро встает, массирует плечо. Потух его взгляд, в котором только что плясали чертики плутовства и бравады…
Что ж, поздно, надо идти.
Прямой путь в раздевалку с этого крыла был уже закрыт; ему пришлось подниматься на третий этаж. В полумрак погружена школа. По пути Генка цепляется за все дверные ручки – какая дверь поддается, какая нет… Учительская оказалась незапертой. Генка включил там свет. Пусто. На столе лежала развернутая записка:
Ув. Илья Семенович!
Думаю, что вам будет небесполезно ознакомиться с сочинениями вашего класса. Не сочтите за труд. Они в шкафу.
Свет. Мих.
Генка исследовал содержимое застекленного шкафа – действительно, лежали их сочинения. И о счастье, и не о счастье…
…Свет еретической идеи загорелся в темных недобродушных глазах Шестопала. Кроме него, ни души не было (и до утра не будет) на всем этаже…
* * *
Полина Андреевна, мать Мельникова, смотрела телевизор. В комнате был полумрак. На экране молодой, но лысый товарищ в массивных очках говорил:
«Смоделировать различные творческие процессы, осуществляемые человеком при наличии определенных способностей, – задача дерзкая, но выполнимая. В руках у меня ноты. Это музыка, написанная электронным композитором – машиной особого, новейшего типа. О достоинствах ее сочинений судите сами…»
Стол был, как обычно, накрыт для одного человека. Обед успел превратиться в ужин.
Хлопнула дверь. Уже по тому, как она хлопнула, Полина Андреевна догадалась о настроении сына.
Он молча вошел. Молча постоял за спиной матери, которая не двинулась с места.
«Найдутся, вероятно, телезрители, – продолжал человек на экране, – которые скажут: машина неспособна испытывать человеческие эмоции, а именно они и составляют душу музыки… – Тут он тонко улыбнулся: – Прекрасно. Но во-первых, нужно точно определить, что это такое – „человеческая эмоция“, „душа“ и сам „человек“…»
– Господи, – прошептала Полина Андреевна, глядя на экран испуганно, – неужели определит?
Она автоматически придвинула сыну еду.
«А во-вторых, учтите, что компьютерный композитор, чей опус вы услышите, – это пока не Моцарт», – снова улыбнулся пропагандист машинной музыки.
Но Илья Семенович не дал ему развернуться – резко протянул руку к рычажку и убрал звук.
– Извини, мама, – с досадой пробормотал он.
– А мне интересно! – С вызовом Полина Андреевна вернула звук, негромкий впрочем.
Но она сразу утратила интерес к телевизору, когда сын попросил:
– Мама, дай водки.
Она открыла буфет, зазвенела графинчиком, рюмкой.
– И стакан, – добавил Мельников.
Паника в глазах Полины Андреевны: стаканами глушить начал!
Мельников налил (она предпочла не смотреть – сколько) и выпил.
Уткнулся в тарелку, медленно стал жевать.
Звучала странноватая механическая музыка.
Боковым зрением старуха пристрастно следила за сыном. Потом озабоченно вспомнила:
– Тут тебе какая-то странная депеша пришла. Из суда.
Мельников взял. Вскрыл. Читает. Чем дальше читает, тем резче обозначаются у него желваки.
– Нет, ты послушай. – И он принялся читать вслух:
«Уважаемый Илья Семенович!
Не имею времени зайти в школу и посему вынужден обратиться с письмом. Моя дочь Люба систематически получает тройки по вашему предмету. Это удивляет и настораживает. Ведь история – это не математика, тут не нужно быть семи пядей во лбу, согласитесь…»
– Согласись, мама, ну что тебе стоит? – зло перебил сам себя Мельников.
«Возможно, дело в том, что Люба скромная, не обучена краснобайству и завитушкам слога. Полагаю, девушке это ни к чему.
Я лично проверил Любу по параграфам с 61-го по 65-й и считаю, что оценку „4“ („хорошо“) можно поставить, не кривя душой».
– Они лично, – прокомментировал Мельников, – считают!
«Убедительно прошу вторично проверить мою дочь по указанным параграфам и надеюсь на хороший результат.
С приветом, нарсудья Потехин Павел Иванович».