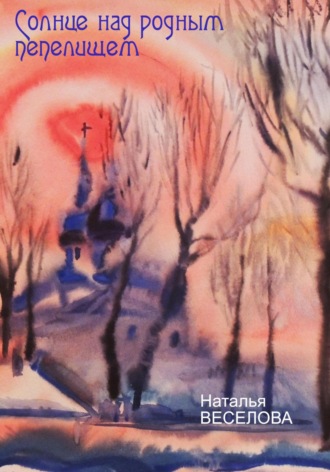
Наталья Александровна Веселова
Солнце над родным пепелищем
Мужей у нее было двое, и оба очень необременительные. Первый – некий Толик – яркий тип избалованного эгоиста со слабовольным подбородком, не оставивший ей, по счастью, потомства. Это ему она, молодая, дарила вырезанные в форме сердца свои фотографии, на которых, в умопомрачительных шляпках, томно смотрела мимо фотографа. «Толе от Клавдии» – писала она на их обороте с красивым росчерком – а после развода забрала все карточки себе обратно. Фотографии второго мужа у меня нет – а жаль, потому что эта темная лошадка – мой родной дедушка, подаривший мне фамилию. Если бы (вот и второе) бабушка, разведясь с ним, вернула себе и своему сыну, моему отцу, девичью фамилию, то Веселовой мне бы не быть никогда. Но она фамилию почему-то не сменила, с ней и в гроб пошла, она значится и на ее бедном кресте на Смоленском кладбище – доставшаяся от второго мужа, с которым прожила не больше года, но родила сына Александра. Кто он был, мой таинственный дед, никогда ни в чьей жизни больше не появившийся? В очень недостоверном (потому что раннем) воспоминании о просмотре альбома кого-то из сестер Клавдии он предстает мне чуть смахивающим на молодого Блока – и все. А еще он играл на скрипке.
Клавдия умерла, когда ее единственному ребенку было три года – и он на всю жизнь запомнил, как его привели к матери в комнату прощаться, и несчастная умирающая «обливала его слезами». Перед кончиной она болела странной болезнью, записанной в свидетельстве о смерти как гастрит. Разве можно умереть от гастрита? – до сих пор мучает меня неразрешимый вопрос.
О своей смерти она знала заранее. Годом раньше сестра Валентина, (впоследствии моя незабвенная «тетя Валя», заменившая мне в Петербурге бабушку) встретила ее, еще совсем здоровую, рано утром на могиле своего недавно умершего сына Бори. Клавдия сидела там, держа на руках моего маленького папу – своего двухлетнего Алесика. На удивление сестры ответила, что только что видела Борю во сне, и он сказал ей следующее: «Тетя Клава, скоро мы будем жить с тобой вместе, а Алесик останется с мамой». Весьма в недалеком будущем так оно и вышло.
Своих умерших предков я отмаливала в Иерусалиме у Гроба Господня и на Голгофе, после чего стала как-то поспокойней за их посмертную судьбу. Но что, в сущности, сказал Клавдии умерший шести лет Боря? По словам его матери, он не был крещен, родившись в богоборческих ранних тридцатых, но умер до семи лет – младенцем. Стало быть, он находился в том месте Посмертия, где пребывают некрещеные младенцы, и там ожидал свою крещеную (за девять лет до революции родившуюся) тетку? Значит ли это, что по каким-то грехам на момент смерти ей было отказано в пребывании с христианами, но все-таки наказание не простерлось слишком далеко, дав ей возможность встретиться с племянником в месте, достаточно упокоенном, но не озаренным Христовым светом?
Про моих двух петербургских бабушек
У доблестного Майделя было десять внуков, что казалось, обещало роду в целом невиданное процветание и преумножение. Но пять революций и две огромные войны, обрушившиеся на страну в течение одного века, хорошо еще не под корень извели его, а дали возможность пробиться чахлым одиноким росткам, причем, в родном Санкт-Петербурге возможным продолжателем нашего рода остается только мой единственный сын. Из десяти детей Параскевы двое умерли в младенчестве, четверо имели по одному ребенку, и четверо, доживших до взрослого возраста, не оставили живого потомства вовсе… Внешние причины на то были разные, но теперь, глядя сквозь призму христианского самосознания, главную и единственную причину я вижу отчетливо и неотвратимо: такое наказание постигло семью за то, что февраль семнадцатого взрослые встретили с одобрением, через восемь месяцев приветствовали октябрь и потом до самой смерти не изменили своего мнения, привив его неопытным младшим, навязывая неискушенному молодняку. Иконы были сняты со стен и запрятаны подальше, причем так, что мне остались из них только три, и то подвергшиеся гнусному надругательству со стороны… Появился в нашей семье и человек, всю жизнь самозабвенно прослуживший идее мировой революции и коммунизма, посвятивший себя многотрудной партийной работе: одна из дочерей Николая с Прасковьей – Евгения, а всю мою жизнь – тетя Женя.
Она родилась в тысяча девятьсот четвертом, и окончить Павловский институт благородных девиц до революции не успела. Зато успела нахвататься вредных идей и проникнуться ими, что привело ее прямиком в ВКП(б) – двадцати лет, по так называемому Ленинскому призыву.
Жизнь Евгения прожила строгую, с первым поцелуем в тридцать один год, а целовальщиком был некий Мишка. Падение честной партийки произошло в извозчицком тарантасе, наверное, одном из последних в истории человечества. «Ехали мы как-то с Мишкой на извозчике…» – так начинался и заканчивался рассказ восьмидесятилетней тети Жени об этом знаменательном в жизни девушки событии… Мишка вскоре исчез безвозвратно, а вместо него в жизни Евгении появился бравый военный хирург Петр Петрович Минеев. Он тоже был красив модной красотой тридцатых-пятидесятых, во всяком случае, чуб имел кудрявый, а нос орлиный. Его-то атеизм как раз и простерся до той крайности, что ему показалось мало, что иконы просто убраны с глаз долой – и он решил бороться с мракобесием активнее: порубить их топором. Снятием солидных окладов доктор Минеев почему-то предпочел не заморачиваться, поэтому значительного ущерба иконам и не нанес, только мощная дубовая доска у Николы-Угодника изрядно повыщербилась сзади. За это в семидесятых он угодил под трамвай – и его тоже хорошенько повыщербило…
Супругов Минеевых Господь бездетностью не наказывал: это наказание они сами на себя возложили и абсолютно сознательно от детей отказались, а на вопрос, почему – отвечали твердо: «Все равно никакой благодарности не дождешься». Тетю Женю не мучил призрак одинокой старости и пустой – без стакана воды – тумбочки у смертного одра: еще будучи более или менее молодой женщиной, она приняла для себя решение умереть в привилегированном доме престарелых для старых большевиков, зная уже, что непременно его у власти выслужит. Впоследствии желание исполнилось с настолько ювелирной точностью, что можно уверенно сказать, что Господь ее добровольный выбор уважил: последний документ для поступления в Дом Старого Большевика был подписан 20 августа 1991 года, то есть за сутки до поражения пресловутого «путча», после которого уже никто подобной бумаги не подписал бы – так ей на следующий день и объявили. С 21 августа дом престарелых стал принимать только ветеранов войны, а ее-то как раз тетя Женя благополучно пересидела в Свердловске…
В свое время она стала опекуншей моего осиротевшего трех лет папы, сына сестры Клавдии, что и дает мне формальный повод называть ее почти официальной своей бабушкой. Он горько плакал и все звал умершую маму, скитаясь по тому самому страшному черному коридору в квартире на 3-й Красноармейской улице и, устав, вероятно, от хронического воя здорового трехлетки, Евгения вышла в коридор и раздраженно бросила невозвратимые слова: «Ну, что ты плачешь? Я твоя мама!» – и ребенок успокоился, стал так ее называть и меньше плакать…
Опекунство Евгении и Петра было им совсем необременительно: ласку и какую-никакую родственную любовь ребенок получал от бабушки с дедушкой, а мачехе и отчиму осталось лишь непритязательно кормить-одевать его со своих весьма и весьма немелких денег, да проверять у школьника дневник, периодически вступая прямо на его страницах в переписку с классным руководителем. «Вчера он должен был пойти на дополнительный урок математики, но не сказал об этом мне и прогулял его», – вот образец подлинно коммунистической неподкупности, за которую даже трудно всерьез осуждать человека с такими принципами: пустяк ведь – донести классной на собственного пасынка, когда и не такие бумаги от чистого сердца писались в те времена в другие, куда более серьезные инстанции…
А ведь людьми-то, они, наверное, были неплохими – Петр с Евгенией. Из всех своих многочисленных двоюродных бабушек (кстати, сразу после моего рождения дружно отказавшихся называться так и велевших моим родителям научить меня, что они еще молодые – «тети») я больше всех любила именно тетю Женю, да и пошла в нее внешностью, здоровьем (надеюсь) и немножко характером (во всяком случае, в той его части, что отвечает за целеустремленность и преданность гиперидее). Любила за то, что она была невредная и никогда не пыталась меня воспитывать – возможно, из хронического равнодушия, которое, должна признаться, и я сама питаю к чужим детям; но равнодушие подразумевает ненасилие – а это как раз у детей на втором месте после подарков; любовь требуется только от мамы, за это ей же прощается и многоразличное воспитание… Что касается подарков, то милые девчоночьему сердцу цепочки, сережки, колечки и прочие сорочьи удовольствия водились у нее в изобилии, и мне всегда позволялось свободно в них копаться, выбирая себе, что сильнее блестело – и это она благосклонно отдавала мне насовсем. Кстати, откуда и зачем взялась у тети Жени вся эта бижутерия? – ведь не от нее унаследовала я слабость к самоукрашательству. Ее же помню всегда в закрытом темном, консервативную до абсурда: Бог весть отчего решив однажды, в незапамятных пятидесятых, что плюшевое темно-коричневое пальто и вязаная, «колпачком», шапочка – именно те предметы туалета, которые ей несказанно идут и будут красить ее пожизненно, она осталась им верна до своего очень нескоро открывшегося гроба: многие десятилетия раз в два-три года она шила и вязала на заказ точно такие же вещи взамен отслуживших старых, не поменяв в фасоне ни линии, ни пуговицы.
В моем более позднем детстве, после отправки нашего дома-ветерана на капитальный ремонт, когда вся семья оказалась раскиданной по разным краям мегаполиса, а тетя Женя поселилась в Веселом поселке, меня, бывало, отправляли на осенних или весенних каникулах гостевать к ней дня на три. Я запомнила загроможденную многочисленными коробками и мебелью в белых чехлах двухкомнатную квартиру, две великолепные бронзовые настольные лампы на тумбочках около нежной четы впечатляющих кроватей, чугунную сковородку, полную волшебно вкусной картошки, жаренной на сале в духовке (никогда и ни при каких обстоятельствах не едала ничего вкуснее), красного дерева трельяж, в многочисленных ящичках которого таились невозможно, томительно прекрасные вещи – как-то: бархотка, пудреница с сеточкой, прозрачная круглая стеклянная коробка с «драгоценностями», вполне мне доступными, старинные картонки из-под конфет, перламутровые раковины, в которых пело море… Главная моя сокровищница в гостях у тети Жени находилась между упомянутым трельяжем и шкафом: прямо на полу там были сложены внушительной стопкой журналы «Здоровье» лет за двадцать пять, так мне, десятилетней, приглянувшиеся, что именно им я посвящала все время между едой, сном и примеркой украшений, несказанно радуя тем тетю Женю. Бездетные женщины обычно боятся гостящих детей – ведь их надо выгуливать и как-то занимать; со мной такой проблемы не существовало: я никакого внимания к себе не требовала, а в десятый раз разглядывала, например, карикатуру на рок-н-ролл, нещадно разоблачаемый в середине пятидесятых, или недоуменно читала статью о пользе только что разрешенных абортов…
Евгения Николаевна Минеева умерла в девяносто лет, от старости. Незадолго до смерти мы с сыном навещали ее в доме престарелых – и была она вполне довольна жизнью в отдельном номере с балконом и санузлом, показывала выпускной академический альбом мужа, за обе щеки уплетала «корзиночки» с пышным розовым кремом, попросила меня выщипать и накрасить ей брови, потому что «тут один так смотрит, так смотрит…». Дом Старого Большевика (Ветерана) не скучал: дружным коллективом ездил в гости к соседям – Старым Актерам – на концерты, писал гневные петиции Президенту, в годы самой головокружительной инфляции лопал по понедельникам красную икру…
«Моя жизнь состоялась так, как я этого хотела: я была счастлива, здорова, занималась полезным для общества делом и теперь умру с удовлетворением», – Евгения не изменила себе до смерти, накануне велев младшей сестре похоронить вместе с урной свой пронесенный сквозь все политические торнадо партбилет…
У морга нас встретил приехавший туда раньше родственник, не отличающийся особой церемонностью и в выражениях не слишком разборчивый, поэтому приветствие его прозвучало так: «Нам не ту старуху подсунули». Я недоуменно приблизилась к гробу и действительно увидела там труп незнакомого бесполого существа с запавшими щеками, обтянутыми скулами и провалившимся ртом. Конечно же, это была не пухлая, круглолицая, кудрявая тетя Женя! Но ее сестра Валентина, в жизни свое отудивлявшаяся и отскорбевшая, бестрепетно взошла по трем ступенькам, ведшим к гробу, расстегнула покойной платье, глянула и заплакала: «Да, это Женечка, это Женечка…». А я ее так и не узнала – и за всю историю моих проводов людей в мир иной это пока единственный, и, надеюсь, последний случай.
По желанию тети Жени ее не отпевали, но на девятый день заказали все-таки в Троицком Соборе, где в свое время ее крестили, где венчались ее родители, скромную панихиду. Нас собралось несколько человек – обломков гибнущего рода. Священник еще не появлялся, и мы часа полтора бродили в ожидании вокруг стоявшего тогда в лесах храма, того самого, у которого с куполом синим не властно соперничать небо1 – а батюшка все не шел и не шел. Наконец, прибежала свечница и сказала, что на пути из пригорода у священника сломалась машина, он вынужден тащить ее на буксире и очень перед нами извиняется, что панихиду служить придется завтра. Назавтра все повторилось с той лишь разницей, что нас, обломков, смогло прийти меньше, и у батюшки машина не сломалась, зато его самого разбил радикулит, да так, что извинялся не он сам, а матушка. После этого уже и дурак бы догадался, что третьего раза ждать не стоит…
Муж тети Жени в книге «Врач на войне» (или с подобным названием, потому что сама книга утрачена) именуется «Главный хирург Балтики» – его фотография, помещенная там, изображает кудрявого темноволосого мужчину в белом морском кителе. Подвиги Петра Петровича Минеева, капитана второго ранга медицинской службы, на самой героической Балтике почему-то начисто выпали из моей памяти, зато во время послевоенного разминирования южного берега Финского залива ему оказались обязаны жизнью, наверно, несколько десятков саперов, никогда о своем чудесном спасении не узнавших. Он обратил как-то раз внимание, что случаев подрыва саперов на минах в послеобеденное время чуть ли не в два раза больше, чем в дообеденное. Долго думал, почему, и, наконец, догадался: им, оказывается, за обедом наливали «фронтовые сто грамм»! Доктор Минеев велел перенести поблажку на вечер, благодаря чему подрываться они почти перестали… В моем детстве он был непробиваемо глух после фронтовой контузии, постоянно курил трубку, даже держа меня, карапузиху, на коленях, увлекался черно-белой фотографией, а характер, по воспоминаниям моих родителей, имел стервозный – но это, в конце концов, частное мнение…
Так засохла – без трагедий и метаний – еще одна веточка на могучем древе под названием род человеческий. Другая отмирала мучительно и катастрофично, на моих уже вполне взрослых глазах, в лице Валентины, то есть, тети Вали, составлявшей мое наказание с детства, но по всем счетам заплатившей сполна.
Она была моложе сестры и резко от нее отличалась – не внешностью, а повадкой. В отличие от степенной тети Жени, тетя Валя, казалось, имела спрятанный под юбкой моторчик (на маневренном фонде во время капремонта ее даже прозвали Скороходом), но и бес там, определенно, тоже затаился, потому что притягательностью для мужчин она обладала неимоверной. Папа говорил мне когда-то, что один глаз тети Вали имел зрачок не круглый, а кошачий, вытянутый, что, впрочем, никак не влияло на остроту ее зрения, но повод заподозрить в ведьмовстве давало. Подозрение это было, однако, напрасным, потому что трудновстретить человека, менее страдавшего мистицизмом… В жизни – да, но, как теперь припоминаю, на картах гадать она все же бралась, простым раскладом – и, представьте, сколько бы ни гадала мне во время любовных коллизий моего девичества, предсказания всегда сбывались с пунктуальной точностью. В целом она была человеком ухватистым, здравомыслящим и жестким – недаром до пенсии проработала снабженцем и при этом, если верить глухой молве, еще и подпольно приторговывала «камушками». Нравом обладала крутым, никаких противоречий не терпела, в воспитании детей полностью отрицала принцип дружбы и «демократии», считая, что их дело – молчать, слушаться с первого слова, не путаться под ногами и не лезть с вопросами. «Даже если ты точно знаешь, что тебя наказывают несправедливо и взрослый неправ, ты все равно не должна спорить с ним, потому что маленькие девочки не смеют противоречить взрослым», – таков был один из ее многих похожих педагогических постулатов. Надо ли говорить, что в детстве я не испытывала к ней никаких теплых чувств, а испытывала горячие – отвращение и ненависть. Они еще усиливались оттого, что видеть ее мне приходилось гораздо чаще, чем хотелось бы, потому что мои работавшие родители иногда вынуждены были просить ее присмотреть за мной на каникулах и однажды даже отправили с ней на дачу в Комарово – впрочем, после месяца, проведенного нами под одной крышей, тетя Валя сама категорически отказалась в дальнейшем брать меня к себе более чем на сутки. И было из-за чего. Надо сказать, что львиная доля нрава и даже вкусов была унаследована мною именно от нее, вдобавок, единственный ребенок в семье, я к моим десяти годам была самым возмутительным образом избалованна. Это происходило за год до моих первых месячных, после которых я стремительно превратилась из сорванца в своенравную барышню, несколько помягчела характером, начала рассуждать о смысле жизни и писать стихи. Неволи я не терпела, воспитанная свободной и любимой, поэтому мне казалось диким, что меня можно за непослушание, например, запереть на весь день в комнате; мне и в голову не приходило там оставаться, поэтому я преспокойно вылезала в окно и мчалась в наш сосновый лесок командовать ватагой ребятишек, состоявших в моей «банде» – ибо это был неизбежный в жизни ребенка нашего поколения период «тайных обществ», «секретных штабов» и карт местности, испещренных стрелками и таинственными знаками, среди которых череп и кости являлись абсолютно обязательными. Случались и серьезные драки – с применением увесистых дубин, гонки на велосипедах, после которых на мне не оставалось живого места – и можно себе представить, как тряслась за меня тетя Валя, обязанная, все же, вернуть ребенка родителям целиком, а не по частям, чем и оправдывались ее чрезвычайные меры, в ответ рождавшие только вызывающую грубость и непослушание в квадрате. Временно спокойной она могла побыть только тогда, когда я, случалось, на целый день присасывалась к очередной книге или проводила вместе с тетей утро, собирая грибы – но ведь никакой гарантии не было, что вечером я не убьюсь насмерть или не прикончу ее саму. Такая возможность у меня однажды мелькнула, и я до сих пор не могу избыть темного ужаса при воспоминании об этом своем детском приключении.
Подбила я однажды своих сотоварищей вырыть самую настоящую волчью яму перед «вражеским штабом», обнаруженным в такое время, когда родители уже разогнали наших врагов по домам. Смеркалось – а у нас кипела работа: мы копали и копали, а потом еще воткнули в дно ямы остро заточенные колья, словно собирались загонять медведя (не забудьте, мне тогда было почти десять лет, но в раж входить я умею и до сих пор, правда, делаю это несколько реже). Яму закрыли ветками, положили сверху невесть где добытый коленкор, а на него насыпали палой хвои, очень натурально разметя ее еловой лапой. Получилось идеально; я до сих пор помню свое удовлетворение от качественно проделанной работы – и тут из-за сосен раздалось ненавистное: «Наташа, ужинать и спать!» – и тетя Валя неожиданно возникла едва ли не в двух метрах от замаскированной ямы – и продолжала уверенно шествовать вперед. «Тетя Валя, стой!!!» – взвизгнула я, нимало не заботясь о своем авторитете перед «младшими по званию». Если бы жизненного опыта было у меня хоть лет на пять побольше, то я бы уже знала, что самым надежным способом немедленно остановить тетю было выкрикнуть: «Иди быстрее!!!» – но мне не исполнилось еще, повторю, и десяти лет. «Почему это я должна стоять?!» – в полном соответствии с нашим с ней характером возмутилась она – и следующий шаг стал роковым: раздался треск на весь лес – и я зажмурила глаза. Бог пронес. Она не то что не попала на колья и не сломала позвоночник – но и в прямом смысле отделалась легким испугом. А я не стала убийцей, не подлежавшим по малолетству уголовной ответственности.
Представляю, о чем думала тетя Валя той же ночью, когда я безмятежно спала, а она в сотый раз переживала немыслимое ощущение разверзающейся пропасти, уходящей из под ног земли… Она думала: «Мои дети никогда бы не поступили так, как эта скверная девчонка. Ни Боренька, ни Мариночка. Они были бы хорошими, ласковыми и всегда бы меня слушались. Но вот чудные мои дети умерли, а эта малолетняя преступница живет себе, и ничего ей не делается. За что такая несправедливость, Господи?».
Боренька умер в тридцать седьмом году шести лет отроду, причиной смерти в свидетельстве указана скарлатина. Тогда еще не изобрели антибиотиков. Это был отличный ухоженный ребенок с глазами шкоды и русой челкой. После смерти он не приходил к своей матери, а пришел к тетке (моей бабушке Клавдии), чтобы предупредить ее о предстоящей кончине. Он был некрещеным, и молиться за упокой его души в церкви не положено.
Мариночка скончалась в сорок втором году в Ярославле, прожив почти ровно два года (умерла накануне дня рождения). Этого не случилось бы, если б не война. Воспаление легких она получила в битком набитом эвакопоезде. Похоронена там же, в чужом городе, мать больше никогда не бывала на ее могиле, и самой могилы более не существует. Девочка была толстушкой, на мир глядела любопытно, сосала пальчик. У нее, как и у брата, и у отца, были кривоватые мизинчики. Ее тоже не крестили, остается уповать на Божью милость.
После этого тетя Валя решила детей больше не иметь – и не понять ее в этом вопросе невозможно. С мужем – красавцем и бабником Ваней – она развелась вскоре после войны и больше замуж не стремилась. Тот же Ваня, спустя лет пятнадцать овдовевший во втором браке, умолял ее выйти за него снова, она заметно колебалась, переписывалась, гостила – и ответила отказом. То ли оттого, что не захотела стать матерью его выжившему сыну от другой, то ли не желая менять своих к тому времени уже устоявшихся привычек независимой женщины.
Тетя Валя была личностью самодостаточной – этого не отнимешь. Мужчины добивались ее отчаянно – но снисходила она с большим выбором, предпочитая людей состоятельных, доказавших свою какую ни есть значимость. За них не цеплялась, охладевающие чувства искусственно не разогревала. Перед самым прибытием моей мамы в Ленинград, то есть за год примерно до моего рождения, тетя Валя как раз рассталась с последним своим любовником, молодым человеком, не достигшим на ту пору и тридцати. Исполнилось ей тогда пятьдесят шесть лет, но разрыв произошел по ее непреклонной инициативе – и отвергнутый, как рассказывали, часами простаивал, вызывая жалость всего дома, в морозные ночи под окнами коварной разбивательницы сердец – только ей уже вся любовь опостылела.
Когда тете Вале стало девяносто, и мы с ней почти подружились, она однажды застыла посреди разговора и вдруг шлепнула себя по щеке: «Вот сейчас сижу и думаю – и чего я из-за них, мужчин, мучилась! Какая глупость! Даже вспоминать смешно. А сколько крови они мне попортили…».
Когда она умерла, мне пришлось, подготавливая квартиру к продаже, перебрать абсолютно все ее вещи. Они бережно сохранялись хозяйкой с послевоенных времен, и, беря в руки то одно, то другое, я каждый раз понимала заново: умерла Женщина. Каждая безделушка или шарфик, вуалетка или пуговица, бархатный цветок или сумочка – все носило отпечаток нестандартного вкуса, про который вовсе нельзя было сказать «утонченный» – этого как раз в ней не было – но смелого, яркого, принадлежавшего эффектной во всем женщине, умевшей покорять, удивлять и царствовать. Бесконечно женственной. Причем сразу оговорюсь, что понятие женственности для меня означает не слабость, истерию и беспомощность, но напротив – незаурядность всякого рода, которая, помноженная на обаяние, и составляет то самое неразрешимое понятие «харизмы».
Здоровьем тетю Валю и Бог не обидел, и сама она не плошала: уже выйдя на пенсию, стала заниматься благородным бадминтоном – и получила первый разряд: не помешала ей и полнота – она была, что называется, «кругленькой» и прыгала, как маленький упругий мячик. Бадминтону тетя Валя не изменила лет до семидесяти семи, он стал значительной и неотъемлемой частью ее многогранного существования, таким же, как вязание, на спицах и крючком, высокохудожественных вещей, больше на заказ, но и просто так тоже. Сколько было у меня шапочек и кофточек из ее рук, и, хотя моя мама тоже неплохо вязала – но в каждом изделии тети Вали присутствовала знаменитая «изюминка», которой нельзя научиться.
Уверенность в своей неиссякаемой силе и здоровье, в конечном счете, жестоко подвела ее. В восемьдесят два года тетя Валя ничтоже сумняшися переехала в освободившуюся двухкомнатную квартиру тети Жени после отбытия той в дом престарелых (государству отдали совсем другую комнату, потому что уж слишком жирно было бы разбрасываться отдельными квартирами). Мы уговаривали ее выменять квартиру поближе, чтобы оказаться в зоне нашей досягаемости в преддверье старости, но она категорически не пожелала брать в расчет свою возможную немощь, уж не знаю, сколько лет жизни себе в мыслях отмеряя… В результате, любая поездка к ней ее племянника, моей мамы или моя превращалась в путешествие на противоположный край города – и уже немыслимым стало заскочить к ней «по пути» куда-то и оказать быструю услугу…
Силы ее таяли исподволь, почти незаметно. Она еще бодро руководила нами по телефону, иногда энергично отчитывала, оперировала глаза (что, кажется, не очень-то помогло), шила пальто на заказ, переписывала завещание, мечтая оказаться сверхсправедливой, но в результате только организовав наследникам кучу трудностей… А зрение понемногу гасло, сила уходила с каждым выдохом, немногочисленные родственники были заняты и далеко, а друзья умирали один за другим… Мы звали тетю к себе, но она не пожелала, боясь утратить самое дорогое гордому сердцу – самостоятельность, и настал такой день, когда, полуслепая и дряхлая, лишенная возможности читать, смотреть телевизор и выходить дальше, чем в магазин, тетя Валя оказалась одна в своей квартире на краю города – но еще сопротивлялась надвигающейся смерти, в дом к себе пускала только по предварительному звонку и на определенное время… В тот последний год она как-то рассказала мне за чаем, как, шестилетняя, видела Государя Императора Николая Второго с Императрицей Александрой Федоровной и Августейшими Детьми во время какого-то их торжественного выхода… «Помню, как бережно вел Царь свою Царицу… А Царевич был – совершенная копия отца, только маленькая… Он сам не шел, его нес на руках слуга… И еще было очень хорошо понятно, что все они в семье очень друг друга любят…». Больше в жизни я никогда не встречу человека, видевшего всех Царственных Мучеников живыми…
Теперь я подхожу к описанию ее последней болезни и смерти. Для меня это подобно тому, как если бы глубокий обширный ожог разбинтовывать, отдирая присохшее, потому что все совершалось на моих глазах и при непосредственном моем участии. Предвижу некоторую сухость слога, неизбежную при описании большой непридуманной трагедии, и заранее прошу читателя меня за это простить.
Позвонили около десяти часов вечера, и не мне, а племяннику тети Вали, Кириллу, а он, легко впадавшая в панику творческая натура, позвал меня на подмогу и моральную поддержку… Если бы я только знала, какие сутки предстоит нам пережить! Звонок поступил от соседей тети Вали снизу по лестнице, у которых хлынула с потолка в ванной вода, и дозвониться до квартиры, их залившей, они не смогли. Ключей у нас с Кириллом не имелось, потому что уверенность тети Вали в своей непотопляемости до того дня была настолько мощной, что даже на самый крайний случай не захотела она предоставить доступ в квартиру кому-нибудь из близких. Мы звонили около часа и уже начали обсуждать возможность вызова спасателей, когда дверь вдруг беззвучно распахнулась. Мы ахнули: едва видимая сквозь клубы горячего пара, в коридоре стояла тетя Валя, растрепанная, в одной ночной рубашке, а две ножки-палочки вырастали из огромных черных мужских штиблет; пар валил из ванной, где била струя кипятка, уже плескавшегося на полу по щиколотку. Тетя Валя сошла с ума. При осмотре квартиры мы нашли целыми только те предметы, которые невозможно было разбить или сломать. Все, до чего тетя могла дотянуться с высоты своего полутораметрового роста, она уничтожила, и обломки с черепками покрывали все горизонтальные плоскости. Квартира пребывала в разорении, практически некуда было ступить…
Некоторые странности в ее поведении, положа руку на сердце, я последние месяцы все-таки замечала, но предпочла списать их на общую вредность тети Валиного характера, замечательное упрямство и своенравие. Теперь выходило, что признаки ее постепенного сползания с ума были мною жестокосердно проигнорированы – и вот положение имело все черты безвыходного…
Первая вызванная «скорая помощь» помогла только тем, что вкатила несчастной снотворное, предоставив нам дальше выпутываться самим. Обыскав дом, мы нашли ключи и заперлись, но стало совершенно очевидно, что оставлять больную одну с этой минуты не будет возможно уже никогда, и нужно все-таки искать отсутствующий выход.
За Кирилла говорить поздно и незачем (почему – станет ясно впоследствии), но за себя могу сказать определенно: кроме того решения, которое я приняла на следующий день, имелось еще одно, драгоценное тем, что могло сохранить чистой мою совесть – и не осталось бы навеки в моей душе того присохшего ожога. Я могла и должна была увезти ее к себе, отдать ей свою комнату, временно поступиться комфортом. Если бы я чуть-чуть поднапряглась, то смогла бы организовать ее круглосуточное пребывание под наблюдением – пусть взаперти, но в человеческом доме, среди здоровых людей. Но для этого требовалось на неопределенное время лишиться привычных, кажущихся такими необходимыми удобств. Пришлось бы отказаться от многочисленных литературных тусовок, глубокомысленных бесед с выпивкой до утра, объяснять разбалованному до крайности сыну, тогда подростку, что не только его спокойствие имеет значение на этой земле, выносить и, возможно, выгребать за выжившей из ума старухой, при этом еще кормить ее с ложки и терпеливо относиться к всяческим выходкам… Все это показалось мне тогда столь ужасным и принципиально не выполнимым, что я ни на секунду не задумалась обречь человека на медленную мучительную смерть, наступившую только три с половиной месяца спустя.







