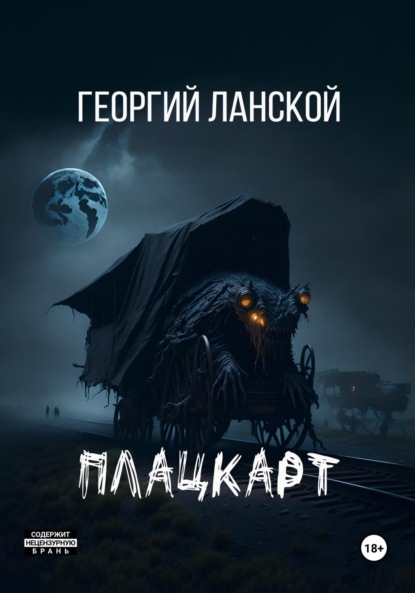
- Рейтинг Литрес:4
- Рейтинг Livelib:3.5
Полная версия:
Георгий Александрович Ланской Плацкарт
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Георгий Ланской
Плацкарт
«Сдохни!», – кричит Максиму в лицо еще совсем молодая женщина с безумием во взгляде, что пронизывает его лазером из-под гривы спутанных волос. Она вытягивает вперед скрюченный палец с обломанным ногтем и тычем прямо ему в лицо, надеясь попасть в глаз, но промахивается, и ее оттесняет полицейский, что дежурит у здания суда. «Сдохни!» – подхватывает многоликое разноголосье, проклиная его со всех сторон, и Максим бежит, втягивая голову в плечи, стараясь укрыться от толпы, жаждущей растерзать его в клочья. Его адвокат стоит поодаль, нервно поправляет галстук и так же нервно дает комментарии алчущим сенсации журналистам, что тычут в него микрофонами. Максим влетает в автомобиль, блокирует двери и почти кричит водителю, чтобы он трогал. Когда лакированный черный «мерседес» выезжает со стоянки, в заднее стекло влетает бутылка пива, и стекло трескается. Пиво выплескивается, заливая его жирной пеной. Максим зажмуривается и кусает губы, надеясь, что все уже закончилось.
Глава 1.
*****
Ехать поездом было большой ошибкой. Но ближайший рейс на Москву вылетал только утром, а оставаться в Новосибирске еще хотя бы на одну ночь Жилин не хотел, и потому согласился на вариант, который сулил возможность очиститься от того дерьма, что он вкусил на судебном заседании. Улететь можно было из Омска, до которого ехать всего ничего, часов восемь на поезде, или шесть на машине, но машину Максим отверг. Поезд дал возможность остынуть, забраться на верхнюю полку купе, отвернуться к стеночке, свернувшись калачиком, и пожалеть себя. Восемь часов, и он успеет успокоиться сам и успокоить партнеров, которые неплохо вложились в проект, что изначально был обречен на провал из-за многочисленных ошибок и нелепой экономии. Никто не предполагал, что слово «провал» будет столь многозначительным.
До отправления поезда было еще больше часа. Напротив вокзала, прямо в здании гостиницы, был небольшой ресторанчик, донельзя провинциальный, конечно, но чего ждать от Новосибирска? Впрочем, кормили хорошо, и по московским ценам, вполне недорого. Да и интерьер показался бы неискушенному московскими заморочками аборигену вполне милым: чистенько, уютно, круглые столики, сверкающий хром, вместо окна – витраж с разноцветными стеклами, красными, синими, отчего пол, стены и лица посетителей приобретали веселенький оттенок. Несмотря на разгар дня, здесь было малолюдно: несколько парочек, сосредоточенно жующий мужчина с внушительным животом, да мамаша с мальчиком лет пяти, явно усталая, измученная дорогой, отягощенная чемоданами, и безнадежно уговаривающая ребенка не шуметь. Мальчишка катал по столу пластмассовый паровозик и на мать не обращал внимания. Ребенок поглядел на Максима, и тот торопливо отвел глаза.
Сидя за столом в компании местного чиновника Крупинина, занимающего в мэрии не последнюю должность, Максим вяло ковырялся в тарелке, и думал, что зря затеял этот бессмысленный переезд, ведь по времени он ничего не выигрывал. Но ему было важно ехать, ехать как можно дальше от места событий, перечеркнув случившееся расстоянием.
–Переживаешь? – подмигнул Крупинин с фальшивым сочувствием.
–Переживаю, Анатолий Евгеньевич, – признал Максим. – Любой бы на моем месте переживал. Денег-то вбухано было немало, а сейчас вот что делать?
–Ну, Максим, чего же ты хотел-то? Не жалей денег, главное – сам выкрутился. Мог бы и присесть, ты, все-таки, лицо материально и юридически ответственное. А деньги, дело наживное. Давай по водочке, а? За успешное завершение нашего безнадежного предприятия…
–Апелляция будет, – мрачно предрек Максим. – А потом кассация. Вон у них какая крокодилица на процессе выступала. Мясо с боков вырывала прямо кусками.
–Ну, будет, – пожал плечами Крупинин. – Только крокодилице ничего не светит. Экспертиза, так сказать, установила виновных, ты тут явно ни при чем. Во всем виноваты природные силы, опять же подземные воды, о которых не сообщили. Мало ли махинаций при строительстве. Да и судья, так сказать, не зря свой хлеб ест.
–Дороговато ему мой хлеб встал.
–Ну, мил человек, задарма и прыщ не вскочит… Максимка, не тушуйся. Тяпни рюмочку, оно и полегче будет… А, может, ну ее нафиг эту поездку? Я сейчас прикажу, билеты сдадим, а сами на базу отдыха, а? У нас тут такая база есть, закачаешься, у вас в столицах таких нету.
–Так, вам-то чего со мной ехать? – криво усмехнулся Максим. – Мне сопровождающие не нужны.
–А, может, я на Красную площадь сходить хочу, а? – усмехнулся Крупинин. – Замучила ностальгия, так сказать… В мавзолей схожу, на ВДНХ прокачусь, очень уж люблю я фонтан «Дружба народов»… А тут компания такая замечательная… Ну, и попросили, конечно, тебя сопроводить, так сказать. Хочу, так сказать, принять личную благодарность за избавление господина Жилина от доли арестантской.
Эти его «так сказать», вставляемые к месту и не к месту раздражали. Максим отрезал кусок мяса с жирной прослойкой, сунул в рот, прожевал, а затем, с невнятным мычанием сорвался с места, зажимая рот рукой, рванул дверь туалета и едва успел склониться над унитазом, как его вытошнило. Отрыгивая, и вытирая тыльной стороной ладони набежавшие слезы, Максим на ощупь оторвал кусок туалетной бумаги, вытер рот, и только потом увидел, что его галстук плавает в унитазе в рвотных массах. С яростным шипением сдернув шелковую ленту с шеи, Максим швырнул галстук в корзину, не попал, брезгливо поднял с пола и снова кинул, на этот раз прицельно, но галстук, словно змея, угодив в никелированную посудину одним концом, начал выскальзывать, сползая на кафель заблеванной влажной частью. Максим отвернулся и пошел умываться.
В зеркале отразился брюнет лет тридцати пяти, с ранней сединой, измученным лицом и жалким взглядом. Максим рассеянно отметил, как похудело, фактически сползло вниз лицо за эти четыре месяца процессов, согласований и договоров. От него прежнего почти ничего не осталось, так, бледная тень, призрак. Упырь в дорогом костюме.
Когда он вышел, с влажным лицом, растрепанными волосами и покрасневшими глазами, Крупинин встретил его сочувственным взглядом.
–Траванулся что ли?
–Не знаю, – вяло ответил Максим.
–Да вроде не должен был, мы вместе завтракали, разве что ты чего-то еще перехватил… Не, это нервы, Максимка…
–Не называли бы вы меня Максимкой, Анатолий Евгеньевич, не пацан я вам вроде бы, и за свои услуги вы нехило бабло получили, – резко сказал Максим. С лица Крупинина сползла сочувственная гримаса, и он довольно зло ответил:
–Так ты мне вообще-то по гроб жизни обязан, родной.
–Не обязан, и я вам не родной, упаси Бог от такой родни, – отрубил Максим. —Я с вами рассчитался. С вами, судьей и прочими сочувствующими и жаждущими помочь.
–Так-то оно так, – невозмутимо ответил Крупинин, но в его глазах плескалась злость, – только иногда кроме щедрот было бы неплохо испытывать легкое чувство благодарности. Думаешь, просто было заставить заткнуться свидетелей?
–Мое чувство благодарности исчислялась суммами с несколькими нулями, – зло оборвал Максим. – Хватит об этом.
Он возвысил голос так, что его услышал весь ресторан, а мальчишка за соседним столиком уронил со стола свой игрушечный поезд, опрокинул стакан с соком. Пластмассовый паровозик глухо хрустнул, колеса брызнули в стороны, а от сока на полу образовалась багровая лужа. Капли со столешницы все капали и капали. Официантка бросилась на помощь сконфуженной матери, что неуклюже промакивала стол салфетками, превращающиеся в неаппетитные бурые комья.
–Ну, хватит, так хватит, – неожиданно покладисто сказал Крупинин, но в голосе чувствовалось недобрая затаенная обида готовой ужалить змеи. – Что мы в самом деле… Все в прошлом, все закончилось. Давай выпьем?
Максим угрюмо протянул рюмку, чокнулся и опрокинул ее в рот, морщась от горечи водки. Крупинин тоже выпил, задышал, занюхал наколотым на вилку грибочком, внимательно оглядел его и отправил в рот, а потом, чуть не поперхнувшись, прошептал:
–Глянь, Максимка! А вот и Крокодилица!
Максим обернулся. В кафе действительно вошла адвокатесса, бледная, высокая, с затянутыми в длинный хвост белыми волосами, в элегантном бежевом костюме, том самом, в котором она была в суде. Фамилии адвоката истцов Максим не запомнил, что-то вычурное… Войцеховская, Величинская… как-то так. А звали ее Анной, имя врезалось ему в память сразу, когда она столкнулась в коридоре суда. Тогда он, занятый мрачными мыслями, не обращал внимания на ее внешность, а сейчас, подогретый спиртным не мог не заметить холодной, ослепляющей в своей безжалостности красоты зрелой, уверенной женщины.
Крупинин тоже оценил и прищелкнул языком, когда она, волоча за собой туго набитый чемодан, проходила мимо. Она услышала, и даже завертела головой, ища источник звука, а увидев, сдвинула брови и даже бросила панический взгляд в сторону двери, но затем решительно двинулась к соседнему столику, села лицом к Максиму и вызывающе закинула ногу на ногу, глядя на него с холодным презрением. Он сглотнул, подумав: вот бы закурить. Курить Максим бросил года три назад, не начал даже когда его затянуло в судебный процесс, и он, долгими вечерами, выхаживал по комнате, пил, даже пару раз срывался на кокаин, но сигарету в рот так и не взял, чем тайно гордился. А тут поди ж ты, один взгляд судебного противника, и во рту высохло, как в колодце.
–Хороша, зараза, – одобрительно хмыкнул Крупинин. – Я, если честно, слегонца обтрухался, когда узнал, что она против нас.
–Так сильна?
–Почти не проигрывала. Кабы не пресс, что мы судье сунули, продули бы с треском. Анюту судьи любят, а прокуроры побаиваются. Ее процессы – сплошная эквилибристика и прочее шапито, так сказать. Хоть билеты продавай. Журналисты воют от восторга, хорошо хоть сегодня удалось добиться закрытого заседания. Она ж бывший следак из идейных. Ты знал?
–Откуда? Чего ж со своей идейностью на темную сторону перешла? – усмехнулся Максим. Крупинин развернулся, послал адвокатессе воздушный поцелуй и поднял вверх рюмку. Она не ответила и отвела взгляд в сторону.
–Была там какая-то мутная история. То ли подстрелили ее, то ли ножом пырнули, прямо в кабинете, на допросе. Опера вроде не обшмонали как следует терпилу. Долго в больнице валялась. Ну, и решила, что здоровье дороже. Коллеги бывшие ее за это долго простить не могли, она ж все схемы, все ходы и схемы знала. Потому она в уголовку и не лезет, чтобы жизнь не осложнять, ни себе, ни сослуживцам. С людьми, Максим, дружить надо, и уметь договариваться. Тогда они к тебе на помощь придут, как вот сейчас…
Максиму не хотелось снова слушать тонкие намеки на необходимость увеличить благодарность в денежном эквиваленте, потому он демонстративно бросил взгляд на часы.
–Пора нам, – без сожаления произнес он. – Точно со мной поедете, Анатолий Евгеньевич?
–Поеду. Надо же с будущими партнерами поручкаться, – крякнул Крупинин, разбив в клочья надежду, что от него удастся отделаться малой кровью. Теперь еще восемь часов придется слушать, как он все ловко разрулил. Крупинин поманил официанта. – По столице прогуляюсь, друзей навещу.
Они расплатились и поднялись. Выходя из зала, Максим бросил взгляд на адвокатессу. Свет солнца, пробивающийся сквозь цветной витраж, заливал ее лицом красным, превращая в жуткую маску. Женщина ответила Максиму взглядом, наполненным неприязнью.
*****
Анна проводила взглядом своего недавнего противника и зло сжала губы. Проигрыш в суде, пусть даже первой инстанции, был для нее делом непривычным. Ее репутация шагала далеко впереди, все знали: если Величинская взялась за дело, то все, пишите письма мелким почерком, она выиграет. И тут такой оглушительный провал. Конечно, она подаст апелляцию, но внутренний голос подсказывал, в этом деле все бесполезно. В суде председательствовал Владимир Антонов, который не любил Анну, и которая ответно не любила его за два загородных дома, недвижимость на Кипре и Испании, дорогой «майбах» и часы за полтора миллиона, что он небрежно таскал на руке. Все это было куплено явно не на судейскую зарплату, и в свое время она, краешком зацепив скандал, пробовала что-то там доказать, но быстро обломала зубы и отстала. Не ее юрисдикция, не ее город, в конце концов, но Антонов оказался мстительным и злопамятным, и молодого следователя запомнил, даже когда та ушла в адвокаты. Она дважды выступала в суде, где он вершил судьбы, причем один раз пыталась сделать судебный отвод, но ничего не вышло. Тогда она выиграла, с большим трудом, но не с теми результатами, которых добивалась. А сейчас, когда Анна была уверена, что застройщика, виновного в обрушении дома, приговорят к преступной халатности и обяжут как минимум выплатить пострадавшим семьям денежную компенсацию, такой вот поворот.
Ответчики уверяли: на обрушение дома повлияло строительство моста через Обь и недавнее землетрясение в 4,5 балла. Никто не предполагал, что вбиваемые сваи спровоцируют оползень, поскольку, как оказалось, дом стоит на разломе земной коры. Да, Новосибирск иногда колыхали землетрясения, для Сибири редкие и почти незаметные, но именно они вкупе со строительством привели к тому, что новостройка поползла по берегу вниз и обвалилась. Бывает. Инженерно-строительные изыскания были проведены плохо, виновные должны понести наказание, но к застройщику какие претензии? У него все шито-крыто. Вот отчет экспертизы…
Анна выступила с ответной речью, представив еще один отчет, в котором другой эксперт, задолго до строительства, убеждал, что данный участок берег Оби для строительства многоэтажек подходит только с очень большими оговорками, подразумевающими качество материала. Высказав это, Анна придавила отчет еще одним. Ответчики использовали для строительства цемент, что годился только для штукатурных работ, в панели почти не добавляли арматуру, да и сами панели частично изготавливали не в заводских условиях, а прямо на улице: заливали бетон в формы прямо на земле, дикость несусветная, полное несоблюдение всех нормативов, но строительный процесс очень удешевляло. Предчувствующие сенсацию журналисты притихли, готовясь обличать.
Антонов доводы юриста выслушал и попросил экспертов прийти на следующее заседание, что Анна оптимистично пообещала. В итоге оба эксперта не явились, хотя накануне, метая громы и молнии, поклялись, что будут вовремя. А без них, как Анна ни старалась, экспертиза к делу не была приобщена. Отшвыривая оба документа, Антонов мстительно ухмыльнулся.
Дальше ход процесса изменился в худшую сторону. Анна была занята лишь тем, что парировала и парировала словесные эквилибры адвоката ответчиков Сорокина, который трещал согласно своей фамилии, ну, или как счетчик Гейгера. Парируя, Анна мрачнела с каждой минутой, понимая, что ее атака безнадежно провалена. Теперь они не могли надеяться не только на тюремное заключение, но даже на компенсацию пострадавшим. Сорокин наливался гордостью, а ответчик, застройщик Жилин, угрюмый мужчина с хищным лицом, глядел в пол. Бледные лица семей, потерявших после обрушения близких, стояли перед ней живым укором. Когда оглашали вердикт, Анна поймала взгляд секретаря, сочувствующий и одновременно жалкий. Та тоже все понимала. Все всё понимали.
После оглашения приговора, она еще нашла в себе силы выступить перед журналистами, рассказывая, что, несомненно, будет добиваться справедливости и, если надо, дойдет даже до Верховного суда, но сама в это не верила. Ей все мерещилась бесстыдная радость Сорокина и отрешенное лицо Жилина, вышедшего из зала, будто он проиграл, а не разнес надежды людей на справедливость в пух и прах. Глядя, как заместитель мэра Крупинин по-свойски хлопает Жилина по плечу, Анна поняла, что шансы выиграть процесс минимальны. Злая, как Сатана, она взяла такси и рванула к струсившему эксперту, готовясь разнести его в клочья.
Двери открыла женщина лет пятидесяти с покрасневшими глазами и черной косынке на голове, косо сидящей на ее плохо прокрашенных хной волосах.
–А Феденьки больше нет, – всхлипнула она.
–Как это —нет? – прошептала Анна, удивляясь своей запоздалой глупости.
–Погиб Феденька, – ответила вдова и прислонилась к притолоке. —Вечером с собакой вышел, его хулиганы ножом…
У ног хозяйки крутилась собачонка, помесь йорка с чем-то еще, поглядывала на гостью веселыми глазенками, и пару раз задорно гавкнула. Анна выдохнула. Оказалось, что Федор Картавин, ее строительный эксперт, в тот момент, когда она злилась в суде за его отсутствие, уже остывал в морге с тремя ножевыми. Обуреваемая нехорошими предчувствиями, Анна вынула из сумки сотовый, и позвонила второму эксперту, но на другом конце сети ей не ответили. Аппарат абонента оказался выключен. Ехать на другой конец города Анна не успевала, и потому позвонила знакомому, попросив ненароком проверить, не попал ли в криминальные сводки некий Владимир Попов, одинокий мужчина, проживающий в Краснообске. А еще через четверть часа она, положив телефон в сумку, осела на пустую скамью у здания суда и прижала руку ко рту. Второй эксперт попал под машину в тот же день, и травмы оказались несовместимы с жизнью.
Деньги. Все решали деньги, гигантские суммы, потраченные на этот жилой массив. Если будет доказано, что строительство велось с нарушениями, и все остальные дома могут в любой момент сложиться, как карточный домик, это не просто банкротство застройщика. С насиженных мест полетят все, вплоть до мэра, поскольку даже Анне без особого труда удалось проследить… нет, не связь, скорее запах связи застройщика с городской элитой. У следственного комитета возможностей было побольше, чем у простого адвоката со связями. Пострадавшие могли подать в суд не только на застройщика, но и на мэрию, продавшей для застройки этот участок, и имели неплохие шансы на выигрыш, докажи следствие преступный сговор. Стоило ли это жизни двух экспертов, осмелившихся возразить? Несомненно. Убрать с дороги двоих немолодых мужчин было куда дешевле.
Сидя перед судом и растрачивая время без толку, Анна с вялым запозданием подумала: а не случится ли что-то похожее с ней? Но взвесив все за и против, решила – нет. Не рискнут, она слишком заметна, но подстраховаться не мешает. Две смерти в одном деле подряд еще можно списать на случайность, три – это уже закономерность. Не рискнут, но… Черт побери, когда в деле замешаны такие деньжищи, возможно все. Она вспомнила всхлипывание вдовы Картавина, и ее затошнило от злости, когда в голову пришло мимолетное воспоминание: вот она читает статью, что судья Антонов купил яхту и катается на ней по Обскому водохранилищу. На какие, интересно, шиши?
Пробудившаяся ярость толкала Анну на необдуманные поступки, и когда она, перед самым отъездом, в кафе наткнулась на Крупинина и Жилина, ей захотелось сделать что-то ужасное, особенно после того, как Крупинин издевательски отсалютовал ей рюмкой. Анна с трудом дождалась их ухода.
Мальчик за соседним столиком всхлипывал, прижимая к груди сломанный паровозик. На мгновение он взглянул на Анну, и она торопливо отвернулась. С определенного времени она не могла выносить детских взглядов и прячущегося осуждения в них. Ей казалось, что так могут смотреть только дети и коты, презирая и уничтожая в своем кажущемся безразличии.
Она встала и покатила чемодан к выходу, перебежала пешеходный переход прямо перед автобусом, сердито рыкнувшему на нее клаксоном, и, сворачивая к вокзалу, врезалась в вышедшего из-за ларька мужчин, точнее, в крайнего из спаянной троицы. И не просто врезалась, а вмяла в него хот-дог, брызнувший кетчупом.
–Женщина, вы что ослепли? – заорал пострадавший.
–Простите, – залепетала она, – я не нарочно. Хотите, я оплачу вам…
–Оплатит она… У меня поезд через пятнадцать минут…
Анна рассердилась, вынула из кошелька пятитысячную и припечатала ее к влажной от кетчупа груди скандалиста. Честное слово, не стоила его дешевая рубашонка такой истерики.
–Вон ларек с майками, купите любую, а сдачу оставьте… не знаю, на сувениры. Повторюсь, мне очень жаль, – припечатала она и торопливо пошла к вокзалу, не слушая крики за спиной.
Чуть позже, когда она уже протягивала проводнику паспорт, ожидая, когда он сверится со списком пассажиров, купивших электронные билеты, Анна подумала, что в этой троице ей кое-что показалось странным. Двое мужчин: тот, кого она изляпала кетчупом, и второй, помоложе, всем своим видом демонстрировали принадлежность к так называемым органам. Выдавала стрижка и… что-то еще, что-то от сторожевой собаки во взгляде. А вот третий…
Третий.
Если тех двоих она сравнила с собаками, то третий напоминал волка. А еще он держал впереди обе руки, на которых болталась свернутая джинсовая куртка. Именно так можно скрыть от нежелательных взглядов кое-что интересное, вроде наручников.
Анна зашла в свое купе, затолкала под сидение чемодан и бездумно уставилась в окно, глядя на снующих по перрону пассажиров. И где-то за пять минут до отправления троица с привокзальной площади прошла мимо нее в столь же тесной спайке: двое псов по бокам, волчара в центре. На груди давешнего скандалиста все так же виднелось пятно от кетчупа.
Красное, как кровь.
*****
Когда пассажирка-торопыга, роскошная баба в дорогом, но слегка несвежем костюме отошла подальше, майор Олег Рязанов, раздраженно посмотрел на красное пятно на футболке, швырнул на асфальт смятый хот-дог и зло бросил:
–Вот зараза! Лех, будь другом, сходи, купи мне одну ассисоньку.
–Что? – не понял его более молодой, мордастый коллега с добродушным, но немного туповатым лицом. Рязанов рассмеялся.
–Внучка у меня на сосиски в тесте говорит: деда, купи мне одну ассисоньку. Я по другому уже и сам не говорю. И всех вокруг этой «ассисонькой» заразил.
–Сколько внучке-то?
–Агате? Четыре. Бойкая, и заводная как тамагочи… Сходи, Лех. Жрать хочу, сил нет. Нам еще часа четыре не хавать нормально.
–А этот? – настороженно спросил напарник, бросив взгляд на третьего мужчину, зажатого между ними и взиравшего на мир с показным равнодушием. Стороннему человеку эта троица не показалась бы странной, но Рязанов был начеку. Ему не понравился взгляд женщины, врезавшейся в него и оставившей пятно от кетчупа, как метку. Было в ней что-то… до боли знакомое, несмотря на дорогое шмотье, украшения, профессиональный макияж. Красива, и вроде вполне безобидна, хоть и дерзка, но этот ее цепкий взгляд ищейки, моментально обшаривший всю троицу с ног до головы, и на мгновение задержавшийся на скованных наручниками руках их пленника, пусть и скрытых одеждой. Рязанов подумал, что увидел в ее глазах нечто вроде понимания. Но она не стала вмешиваться, не задала вопросов, уходя, ни разу не обернулась, и на том спасибо. Возможно, это было просто совпадение, только вот Рязанов в совпадения не верил и мысленно сделал зарубку. Почему-то ему казалось, что эту женщину он еще увидит.
Напарник ждал ответа. Майор опомнился и кивнул.
–Постерегу, – пообещал Рязанов. – Никуда он не денется, тут патрулей полно, если попробует свалить, догоним. Но он же не рыпнется, да, Балашов?
Ему не хотелось полагаться на случай или благоразумие человека, которого он конвоировал, пусть таким дилетантским способом. Рязанов прекрасно знал, с кем имеет дело и потому готовился к худшему. Будучи на полголовы выше Балашова и шире его в плечах, он нисколько, тем не менее, не сомневался, что в случае серьезной заварухи не сумеет удержать его без потерь. И тогда придется решать, начинать ли пальбу в людном месте или нет. От мысли, что ему придется применить оружия прямо тут, на привокзальной площади, Рязанову стало плохо, и потому он взмолился, чтобы поезд пришел как можно быстрее.
–Я бы тоже хотел сожрать ассисоньку, – сказал Балашов и лениво повел плечом, словно демонстрируя, что в любой момент может передумать и одним движением, раскидав провожатых, допрыгнуть до подземного перехода. А там метро, свобода, толпа уезжающих с пригородного вокзала, среди которых можно затеряться. Когда Балашев пошевелился, под джинсовой курткой, висящей на его руках, холодно звякнула цепочка.
–Перебьешься, – ухмыльнулся Рязанов. – Голод, он, знаешь ли, облагораживает.
–Да ладно, майор, не жмись. Не разорит тебя один хот-дог, – сказал Балашов тягучим, словно патока, тоном, будто ему было все равно, покормят или нет, но Рязанов натренированным ухом услышал крохотную ноту истинного голода. Это было не удивительно. Задержать Балашова удалось ночью, а сейчас был уже вечер. Солнце медленно наливалось красным и падало за многоэтажки, окрашивая их стекла в багровеющие тона. Хмыкнув, Рязанов крикнул в спину удаляющегося к торговым точкам коллеги.
–Леха! Тихомиров! Два хот-дога купи!
–Спасибо, майор, – серьезно сказал Балашов.
–Кушай. Не обляпайся, – грубо ответил Рязанов и отвернулся.
Взять Балашова в Новосибирске было большой удачей. Потому Рязанов просто подпрыгивал от нетерпения, ожидая, когда подадут поезд и можно будет войти, пристегнуть добычу наручниками и расслабиться на какое-то время, предвкушая, когда все благополучно закончится. Чисто технически нужно было уложиться в положенные по закону три часа, но до Барабинска было четыре на поезде. На машине меньше, но ехать даже на конвойной машине Рязанов не рискнул, как не рискнул отправлять задержанного спецвагоном, в компании таких же страдальцев, но вагона нужно было дождаться, по расписанию они не ходят, а время не терпело. Официального статуса арестованного у Балашова не было, так, задержан по подозрению, формулировка обтекаемая, и начни тот протестовать по пути, требовать адвоката, могли появиться проблемы. Потому Рязанов решил попытаться.

