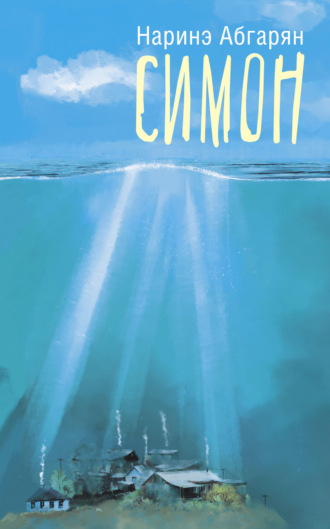
Наринэ Абгарян
Симон
А потом он уснет у матери под боком, и она будет лежать – неловко изогнувшись, подложив под щеку ладонь, и без устали любоваться им. Ровно так много лет назад любовалась новорожденной дочерью Сильвия, ровно так водила пальцем по ее щечке, когда она, давясь молоком, жадно пила, втягивая воздух крохотными, в булавочную головку, ноздрями, чепчик ее съехал набок, обнажив прозрачную раковину розового ушка и нежный пух волос, золотистый от матово-рассеянного света ночника. Пеленка, на которой она лежала, завернулась с краю, и Сильвия пригладила ее, а потом водила пальцем по контурам пушистых желтых цыплят и утят, мохнатых облаков со смеющимся круглощеким солнышком, и, если бы ее спросили, что такое счастье, она бы ответила, ни секунды не сомневаясь: счастье – вот оно, рядом, и другим оно не бывает.
Анна проснулась сразу, как только мать приоткрыла дверь в комнату. Сонно улыбнулась, спросила одними губами – как погуляли? Прекрасно, тоже одними губами ответила Вдовая Сильвия, и сразу же повысила голос – чего это мы шепчем, он ведь пока почти ничего не слышит! Она подробно рассказала о прогулке, в красках расписав историю старушек и благоразумно опустив новость о трагедии, постигшей семью Сайинанц Петроса (зачем расстраивать кормящую мать). Обрадовав дочь вестью о чудом раздобытом просвирняке, она ушла на кухню – варить суп. Мацуна для чесночного соуса осталось совсем мало, пришлось разбавлять водой. Нужно будет позвонить молочнице, заказать литров пять молока, чтоб и мацун заквасить, и творога сготовить – последний на завтрак ушел. После смерти матери Сильвия вынуждена была продать корову и коз – возни с ними было много, да и деньги были очень нужны. Ну а потом, когда выправилась, заводить снова живность не стала, рассудив, что молока ей нужно совсем мало, дешевле покупать, чем со скотиной возиться.
Выключив под кастрюлей огонь, она сразу же налила тарелочку супа, а вот добавлять туда чесночный соус не стала, вовремя вспомнив, что острое может испортить вкус материнского молока. Заставив поднос корзиночкой с хлебом и блюдцем с малосольной брынзой, она, осторожно ступая, направилась к комнате дочери. Толкнув локтем дверь, поймала конец фразы, которую та произнесла с нескрываемой нежностью: «…как стану выходить из дому, первым делом отправлю тебе по почте фотографии ребенка…»
Анна при виде входящей в комнату матери смешалась, на полуслове оборвала себя и отключила телефон. Ничего не говоря, Вдовая Сильвия поставила поднос на прикроватную тумбочку таким образом, чтобы дочери не нужно было за ним тянуться. Та приподнялась на локте, коснулась ее руки.
– Мам, я просто хотела…
– Не оправдывайся.
– Он мой отец, он имеет право видеть внука. – Анна досадливо поморщилась, сердясь на себя за то, как все так глупо вышло.
С усилием проглотив колючий ком в горле, Сильвия выдавила: «Ешь, пока не остыло. А я пойду чаю заварю».
Боясь выпалить в сердцах лишнее и обидеть ни в чем не повинную дочь, она поспешно вышла из комнаты. Добравшись до ванной, закрылась там с той поспешностью, с которой запираются, спасаясь от преследования. Дышать стало невозможно: воздух, превратившись в стеклянные осколки, ранил горло и рвал легкие. Сердце с такой яростью билось в груди, будто хотело проломить ребра и выскочить наружу. Вдовая Сильвия пустила воду, подержала под ледяной струей руки, не ощущая холода. Подняла глаза, поймала в зеркале искаженное злостью свое лицо, усмехнулась. Яростно ополоснулась и утерлась полотенцем. Слез не было, отчаяния тоже. Только каменная, неподъемная обида, с которой она справляться так и не научилась.
– Ма-ам? – раздался за дверью обеспокоенный голос Анны. Она не сразу вспомнила, как отпирается задвижка, бестолково подергала ручку, наконец-то сообразила, что нужно отвести в сторону металлический язычок и нажать на кнопку. Дочь стояла в узком коридорчике – босая, в ночной рубашке, придерживая себя под животом, с заколотым на макушке растрепанным пучком волос – и жалко кривила рот. Вдовая Сильвия еще не научилась распознавать все ее гримасы, но именно эту, беспомощно-виноватую, успела выучить наизусть. Анна всегда так делала, когда пыталась исправить неловкую ситуацию, возникшую из-за допущенной ею оплошности. Нужно было как можно скорее уводить разговор в сторону, чтобы она не расплакалась.
– Кто тебя просил шлепать босой по холодным полам! – напустилась Вдовая Сильвия на дочь. – Простыть хочешь? Мастита тебе не хватало? Ну-ка, марш в постель!
Анна подалась вперед, крепко, всем телом прижалась к матери, словно желая обратиться с ней в единое целое, горячо зашептала:
– Прости, пожалуйста. Если ты против, я больше не буду говорить с ним о ребенке.
– Я бы очень тебя ругала, если бы ты именно так поступила, – ответила Вдовая Сильвия, делая ударение на «так».
Она накинула на плечи дочери банный халат, заставила надеть свои тапки и повела ее в спальню, легонько подталкивая в спину и причитая – ишь чего надумала, глупенькая! Дочь шмыгала носом, трогательно цеплялась за ее рукав тонкими длинными пальцами и приговаривала – мамочка, мамочка.
Других детей у родителей Сильвии не случилось. Причиной тому был досадный резус-конфликт, с которым медицина в пятидесятые годы прошлого столетия не умела еще справляться. Впрочем, родители были из породы людей, умудряющихся даже в самом грустном сыскать крупицу хорошего, потому не сильно по этой причине расстраивались. Или же умело скрывали свои переживания, и в первую очередь – друг от друга. Сильвия не припомнила бы ни одного разговора, где они сокрушались, что не смогли родить еще детей.
Она росла в безграничной любови. Каждый ее день рождения превращался в огромный праздник, а подарков, которые она обнаруживала под новогодней елкой, хватило бы на всю ее детсадовскую группу. Она почти не знала запретов, не имела ни малейшего представления о телесных наказаниях, коими не гнушались в других семьях, и искренне расстраивалась, когда кто-то из сверстников жаловался на своих родителей. В ее представлении отец с матерью были божествами, которые ничего, кроме беззаветной любви и поклонения, не заслуживали.
Окончила школу Сильвия с золотой медалью и, с блеском сдав вступительные экзамены, поступила на математический факультет Ереванского государственного университета. Снимала комнату с одноклассницей Офелией, поступившей на филологический факультет. Девочки, не особо близкие в школе, за студенческие годы сроднились и, совершенно не кривя душой, называли друг друга сестрами. Для Офелии, выросшей с двумя братьями-дуболомами, Сильвия стала настоящей отдушиной: с ней можно было говорить обо всем, делиться секретами и мечтами, не боясь напороться на грубые издевки и обидные тумаки. Сильвия же привязалась к подруге всей душой.
Девушки со второго курса получали повышенную стипендию, потому умудрялись не только не зависеть от родных, но и в каждый свой приезд привозить им гостинцы. Не пропускали спектаклей и концертов, ходили на дополнительные образовательные лекции. Влюбившись во французскую «новую волну», караулили фильмы Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара. Открыв для себя утонченный западный мир, старались по возможности ему соответствовать, в том числе и в быту. Хозяйка дома, у которой они снимали угловую комнату, женщина склочная и патологически скупая, с завидным постоянством устраивала им разносы, обвиняя в расточительности. «Это что за мещанство?» – скандалила она, выдергивая из-под вазочки с фруктами белоснежную батистовую салфетку, которую Сильвия купила у обнищавшей старенькой аристократки.
– Так красиво же! – оправдывались девушки, которым в голову бы не пришло ответить грубостью хоть и чужой, но годящейся им в матери женщине.
Хозяйка выуживала из посудного ящичка купленные на блошином рынке золоченые ножи для рыбы и размахивала ими, словно саблями:
– Вы еще скажите, что и это красиво!
– А что в этом некрасивого? – сдвигала к переносице брови Офелия. Закаленная в боях с братьями, она, в отличие от Сильвии, мгновенно теряющейся в ссоре, умела хотя бы настаивать на своем.
– Буржуазное излишество – вот что в этом некрасивого! Комсомолки голову всякой ерундой не забивают, они думают о светлом будущем страны! – выпаливала хозяйка и, кинув обратно ножи, с грохотом задвигала ящичек. Девушки давно бы сняли другую комнату, но останавливало удобное расположение дома: он находился в самом центре города, до университета и большинства театров рукой подать. Потому они сносили скандалы и несусветную скупость хозяйки, запрещавшей включать после десяти вечера свет. Из-за этого они вынуждены были ставить будильник на самую рань, чтобы не приходить на занятия неподготовленными.
Однажды, удачно сдав зимнюю сессию, девушки вознамерились устроить по этому случаю светские посиделки: купить севанской форели и белого вина, а на десерт – фруктов и кусочек рокфора. Офелия снарядила подругу за продуктами на рынок, а сама, смыв косметику и сурово замотавшись чуть ли не по самые глаза в шерстяной платок (мало ли какие опасные личности обивают пороги магазинов, торгующих спиртным), пошла за вином. Продавец, курносый курчавый юноша, сын французских репатриантов, на вид совсем подросток, невозможно долговязый и длиннорукий, видя, как взопревшая от жары и волнения Офелия переминается перед витриной, прочитал ей небольшую лекцию о благородных качествах рислинга и уверил, что ничего приятнее она еще не пила. Офелия, плененная не столько лекцией, сколько манерами юноши – представившись, он обращался к ней старосветским «ориорд»[5] и каждый раз извинялся, когда касался кончиками пальцев ее локтя, чтобы подвести к другой витрине, безропотно купила рекомендуемое.
Вино действительно оказалось хорошим, кисловатым и немного даже солоноватым, удачно оттеняющим нежный вкус рыбы. К возвращению подруги Сильвия успела припустить форель в сливочном масле с эстрагоном и запечь картофель. Получилось до того вкусно, что девушки съели все в один присест, хотя предполагали растянуть рыбу на два дня. Покончив с ужином, они приступили к десерту: красиво разложили на блюде сыр, виноград и орехи, заварили кофе, разлили по бокалам остатки вина, завели патефон. За десертом их и застала заглянувшая за очередной комнатной платой хозяйка. Окинув колючим взглядом красиво сервированный стол, она не преминула учинить новый скандал. И неожиданно для себя натолкнулась на решительный отпор: терпение девушек лопнуло, да и выпитое вино придало им храбрости, потому они, не сговариваясь, подхватили под мышки опостылевшую хозяйку, выволокли ее из комнаты и захлопнули перед ее носом дверь.
– Я надеюсь, вы эти тридцать рублей пустите на строительство будущего страны! – ехидно бросила Офелия, сунув ей деньги. Сильвия прыснула и сползла по стенке, шепотом подсказывая: «Светлого! Светлого будущего».
Придя в себя от потрясения, хозяйка какое-то время заливисто ругалась и даже пыталась втиснуться в окно, но разошедшаяся Офелия пригрозила отрезать ей язык рыбным ножом. Угроза удивительным образом возымела действие: хозяйка прекратила третировать постоялиц и даже стала закрывать глаза на горящий по вечерам свет.
Вскорости у Офелии завязались отношения с тем самым юношей из винного отдела гастронома. На четвертом курсе она вышла замуж и съехала к нему на квартиру. Последний год обучения отчаянно скучающая по подруге Сильвия вынуждена была прожить одна. Она часто заглядывала в гости к молодоженам и, наблюдая их трогательные отношения, мечтала о такой же любви. Однако никому из кавалеров, коих на математическом факультете было множество, она предпочтения так и не отдала: сверстники казались ей дураковатыми легкомысленными подростками. Сильвия мечтала о таком мужчине, каким был герой Высоцкого в фильме «Служили два товарища». Ее покорил образ мужественного поручика-белогвардейца, самоотверженно и по-настоящему любящего страну и не представляющего своей жизни без нее. Офелия, не понимающая, как можно предпочесть красным офицерам белогвардейца, восторгов подруги не разделяла, но благоразумно помалкивала, ведь сама тоже отличилась, выйдя не за обычного советского комсомольца, а за сына репатриантов, бежавших от большевиков во Францию сразу после падения армянской республики и вернувшихся на родину лишь после Второй мировой войны.
Замуж Сильвия вышла по меркам того времени поздно – в двадцать три года. Пропустив мимо ушей увещевания декана, прочившего ей большое научное будущее, она не стала продолжать учебу в аспирантуре и попала по распределению в город Иджеван. Ромик был старше ее почти на десять лет. Выпускник исторического факультета университета и активный общественник, он к тридцати двум годам успел продвинуться по карьерной лестнице и дослужиться до секретаря комитета по образованию. Со столь молниеносным продвижением ему помогли связи и влияние отца, первого секретаря Иджеванского райисполкома. Познакомились молодые люди в школе, куда с проверкой выбралась комиссия роно. Сильвия к тому времени из худенького, почти тщедушного цыпленка, каким пробыла почти все студенческие годы, превратилась в цветущую девушку с довольно выдающимися, но совершенно не портящими ее стройного сложения формами. Росту она была небольшого, однако выглядела значительно выше благодаря тонкокостному легкому строению и гордой посадке головы. Не свыкнувшись с метаморфозами, которым буквально за полтора года подверглось ее тело, она слегка сутулилась, пытаясь зрительно уменьшить крупную грудь, и носила длинные пиджаки, прикрывающие отяжелевшие бедра. Впрочем, старания были излишни – даже объемная верхняя одежда не в силах была скрыть ее завлекательных округлостей. Единственное, что она успешно прятала от посторонних глаз, – это удивительно тоненькую, в один обхват мужских ладоней, талию.
– Ты похожа на песочные часы! – ошеломленно выдохнул Ромик, впервые увидев ее не в рабочем костюме, а в шерстяном, опоясанном тонким кожаным ремешком платье.
– Скажешь тоже! – зарделась Сильвия, спрятав за спиной вспотевшие от волнения ладони.
Она влюбилась в него с первого взгляда.
Природа одарила Ромика той капризной мужской красотой, которая настораживала здравомыслящих женщин: направленный куда-то в переносицу собеседника нарочито отстраненный взгляд серо-пепельных глаз, вопросительно вздернутые брови, тонкое мятежное лицо, хищный рот. Невысокий, ладно скроенный, малословный и стремительный в движениях, он оставлял впечатление решительного человека, каким на самом деле не был. Уверенности ему придавала не убежденность в собственных силах, а крепкий тыл: всемогущий отец, сдувающая с него пылинки мать, беззаветно любящие бабушки-дедушки, которых он иронично называл «рухлядью». Ромик, как и Сильвия, был единственным ребенком в семье. Но, в отличие от своей избранницы, вырос эгоистичным и необязательным. Привыкший всегда добиваться своего, он воспринимал любой отказ как личное оскорбление, был злопамятен и обид никогда не прощал.
Сильвия замечала недостатки своего возлюбленного, но полагала, что сумеет с ними справиться. Она искренне верила, что любовью и терпением можно исправить все. Ромик был первым мужчиной, которого она по-настоящему, вполне осознанно и открыто полюбила. Он был вежлив и щедр, умел красиво ухаживать, был начитан, галантен, терпелив и не нахрапист. Как и она, ценил хорошее кино и знал в нем толк. Трогательно благодарил за любое проявление чуткости. Яичницу с помидорами, пожаренную наспех Сильвией, называл не иначе как божественной, а свитер, который она связала ему ко дню рождения, упорно проносил почти месяц, игнорируя настойчивые просьбы матери – рукава уже лоснятся, Ромик-джан, дай постираю!
Офелия, к которой на новогодние каникулы выбрались погостить влюбленные, восторгов подруги не разделила, но и говорить ей ничего не стала, списав все на собственную придирчивость.
– Бывает ведь такое, человек неплохой, но необъяснимым образом вызывает у тебя отторжение, – после отъезда гостей нажаловалась она мужу.
Тот возразил:
– Почему необъяснимым образом? Очень даже объяснимым. По-моему, человек он не так чтобы очень хороший. И какой-то слишком самоуверенный. Будто пятно бензина на луже – красивое и бессмысленное. Думаю, она еще наплачется с ним.
Напуганная словами мужа, Офелия отправила Сильвии письмо, где предостерегала ее от скоропалительных решений. «Родная моя, знаешь, как я тебя люблю. Ты мне не чужая, и врать я тебе не стану. Хочу, чтобы ты не совершала опрометчивых поступков, потому прошу: не торопись с замужеством, взвесь все за и против. По-моему, Ромик не тот человек, который тебе нужен. Он, как бы это помягче выразиться, слишком сконцентрирован на своей исключительности. Боюсь, если выйдешь за него замуж, превратишься в его обслугу. Очень хотелось бы ошибаться, но ощущения у меня сложились совсем не радужные».
Сильвию письмо подруги задело. Отвечать на него она не стала и сделала величайшую глупость – пересказала его содержание Ромику. На этом дружба девушек закончилась. Офелия несколько раз пыталась возобновить ее, отправляла подруге покаянные письма и заказывала междугородные телефонные разговоры, но Сильвия была непреклонна: она обещала своему возлюбленному, пригрозившему ей разрывом, прекратить дружбу с Офелией. И слово свое сдержала.
Свадьбу по просьбе невесты сыграли достаточно скромную и нешумную. Семья жениха подарила новобрачным квартиру, семья невесты – раздобытую с огромным трудом путевку на курорт в Юрмалу. Первое сближение новоиспеченных супругов случилось в ереванской гостинице, где они ночевали перед отлетом, и закончилось катастрофой: у Сильвии приключился сильнейший спазм, и страдающим от невыносимой боли молодым пришлось предпринять несколько попыток, чтобы высвободиться.
Она прорыдала всю ночь, перепуганная и расстроенная, Ромик же, отойдя от боли, неумело утешал ее – не бери в голову, в первый раз всякое бывает. Она, понемногу успокоившись, принялась ревниво выспрашивать, откуда он это знает, он пожал плечами: «Женщин у меня до тебя было достаточно». – «Сколько?» – «Не считал, все равно сбился бы со счету». – «Дурак!» – «Ревнуешь?» – «Очень надо! А девственницы у тебя были?» – «Нет, что ты. Девственницу испортил – будь добр жениться. А я тебя ждал». – «Ты действительно меня ждал?» – «Как видишь».
Сильвия лежала на спине, сложив под головой руки, и старалась не думать о саднящей боли в промежности. Ромик откинул одеяло, несколько секунд любовался ее красивым телом, медленно, старательно провел по нему горячими ладонями, будто стремясь запомнить каждый его изгиб. Она испуганно задержала дыхание, но он, учуяв ее страх, покачал головой – «не поверишь – сам боюсь». – «Прости». – «Да ну что ты! Прилетим в Палангу, там попробуем. Ты же не была в Литве, не знаешь, как там красиво». – «Зато у меня есть литовская груша». – «А хочешь, я тебе про цветущие рапсовые поля расскажу?» – «Хочу».
Поездку на курорт Сильвия запомнила разрозненными сценами, и, как потом ни старалась, собрать их воедино не смогла: воспоминания распадались, будто плохо подогнанные части мозаики. Вот они с Ромиком заказывают ванильное желе со взбитыми сливками, и она признается, что никогда не ела ничего вкусней, а он дразнит ее деревенщиной. Вот они в Музее янтаря наблюдают доисторическое насекомое в медовом осколке застывшей смолы, и она никак не поверит, что наличие этого прозрачного трупика делает янтарь в разы дороже. Вот они, затаив дыхание, любуются сдержанной красотой костела Успения Пресвятой Девы. Вот стоят на закатном берегу, взявшись за руки, и наблюдают фантастическое небо Балтики, затянутое от края до края рваными лоскутами бирюзовых и абрикосовых облаков… А вот она каменеет от малейшего прикосновения мужа и бессильно рыдает от боли и унижения, ощутив очередной спазм, стеснивший мертвыми тисками ее бедра. Ромик, не меньше ее переживавший происходящее, раз за разом мрачнел, не понимая причину приступов жены и не зная, что сделать для того, чтобы предотвратить их. «Возможно, я просто урод», – как-то, доведенная до отчаяния очередным приступом, сквозь рыдания пролепетала она. «Возможно», – бросил он, ранив ее своим ответом до глубины души.
Вернувшись в Иджеван, Сильвия сразу же собралась к врачу. Попытка гинеколога провести осмотр закончилась чудовищной истерикой – она не позволила ему не то что прикоснуться, а даже приблизиться к себе. Он немедленно направил ее к психиатру, заверив, что проблемы у нее не по женской части, а вот здесь – и для наглядности постучал себя по лбу. К психиатру Сильвия не пошла из страха, что тот запрет ее в клинике для душевнобольных. Мужу она соврала, что все с ней в порядке, нужно просто немного потерпеть, а сама, записавшись на прием к терапевту и пожаловавшись на плохой сон, выпросила снотворное. Посоветоваться ей было не с кем – мать расстраивать она не собиралась, да и постеснялась бы затрагивать с ней столь личные темы, а с Офелией, которой она, ни секунды не сомневаясь, открыла бы душу, прекратила общение. Рассудив, что таблетка димедрола, выпитая на ночь, позволит расслабиться и справиться со страхом, она решила таким образом бороться с приступами. Снотворное действительно помогло, по крайней мере, оно притупило чувство паники, и обрадованная Сильвия собиралась принимать его регулярно несколько месяцев, а потом, постепенно уменьшая дозу, отменить вовсе. Но скоро обнаружилось, что она забеременела, и самолечение пришлось прекратить.
Сильвия до последнего откладывала поход к гинекологу, памятуя об истерике, которую закатила у него на приеме, однако на третьем месяце беременности все-таки собралась – нужно было заводить карту и определяться с акушером. Убедить свекровь не ехать в поликлинику она не смогла – та мало того что настояла на своем, еще и выпросила у мужа служебную машину, чтобы торжественно доставить беременную невестку к врачу. С того визита жизнь Сильвии и покатилась под откос. Она снова не смогла подпустить к себе гинеколога, а на вопрос, сходила ли к психотерапевту, ответила уклончивой скороговоркой «как-нибудь потом». Свекровь, женщина вполне милая, но темная, став свидетелем истерики невестки, сделала неутешительные выводы о ее психическом состоянии и затрубила в рог. Следующий год превратился для Сильвии в бесконечное испытание. Беременность она провела на сохранении. После родов, заставив на втором месяце прекратить кормление грудью, свекровь затаскала ее по врачам. К тому времени отношения с Ромиком у Сильвии совсем разладились: он все чаще срывал на ней злость, обзывая ненормальной, а потом и вовсе стал игнорировать. Скоро у него завязались отношения с секретаршей, женщиной разведенной и ушлой, которая, будучи в курсе событий, растрезвонила по всему городу о «сумасшествии» Сильвии. Сильвия предприняла попытку вырваться из замкнутого круга и упросила мужа отпустить ее с дочерью на неделю к родителям, вознамерившись никогда больше не возвращаться. Но любовница Ромика, моментально разгадав ее план, предостерегла его от опрометчивых поступков. Она отлично понимала, что заполучить его сможет только в случае, если дочка останется с ним, потому не просто отсоветовала отпускать жену к родителям, но и вскользь предложила упрятать ее в стационар, чтобы «ее там наконец-то вылечили». Вместе с тем она развернула масштабный фронт работы, набиваясь в доверие к матери любовника, и, добившись своего, настроила ее против «полоумной» невестки, утверждая, что она, будучи не в себе, подвергает опасности жизнь ребенка.
Спустя годы, прочитав множество медицинских статей о вагинизме, Сильвия сокрушалась, почему такое должно было случиться именно с ней. Почему ей так не повезло с лечащими врачами и мужем. Будь первые более знающими, а второй – терпеливее, и с ее бедой можно было бы справиться. Она бы сама, наверное, смогла выкарабкаться, если бы понимала, что с ней творится. Но никто не объяснил, не успокоил, не убедил, что ее вины в происходящем нет… Врачи выписывали успокоительные препараты, которые не помогали, а свекровь, не скрывающая своей неприязни, норовила всякий раз упрекнуть ее в полоумии.
Два года пребывания в севанской психиатрической клинике Сильвия запомнила одним нескончаемым беспросветным днем. Ее бы, скорее всего, не упрятали туда, если бы она, доведенная до отчаяния грубостью мужа и пренебрежительным отношением свекрови, не сделала попытки бежать. Последней каплей стала безобразная сцена, которую ей устроил полупьяный Ромик. Она вышла из ванной, на ходу натягивая на голое тело халат, он толкнул ее, зашипел, больно тыча пальцем в грудь и в бедра: «Зачем тебе такое тело, если толку от него никакого!» Она попыталась прикрыться руками, но он повалил ее на пол, перевернул на живот, придавил коленом и, дотянувшись до горшка с алоэ, опрокинул его ей на голову, стараясь, чтобы земля высыпалась на лицо.
На следующее утро, под предлогом прогулки с ребенком, Сильвия вышла из дому и, миновав сквер, где обычно проводила утренние часы, направилась на автовокзал. Чтобы не привлекать к себе внимания, решила переждать время до автобуса в привокзальном кафе. Заказала какао и булочку с сосиской, села спиной к окну, проверила, спит ли ребенок, раскрыла для отвода глаз книжку, притворяясь, будто увлеченно читает. За тем занятием ее и застал Ромик. Произошедшее дальше вымылось из памяти Сильвии почти без следа. Единственное, что она помнила, – как выхватила дочь из коляски и не выпустила ее даже тогда, когда муж резко пнул ее в бок. Задыхаясь от боли, она сползла на пол, крепко прижимая к груди свою плачущую девочку, и тогда он, ударив ее кулаком по голове, вырвал ребенка. Она вцепилась в край пеленки, слышала, как трещит ткань, перепугалась, что сделает больно дочери, но не смогла разжать пальцев. Ее так и отвезли в клинику – с крепко стиснутым в кулаке лоскутом пеленки, пушистые желтые цыплята и утята, мохнатые облака со смеющимся круглощеким солнышком, желтое на белом, оранжевое на белом, красное на белом… Но этого она уже не помнила.
Главврач клиники, понимая, что целью могущественной партийной семьи было не лечение, а желание изолировать пациентку на какое-то время, велел не пичкать ее лекарствами, в коих она и не нуждалась. Сильвии отвели угол в том крыле клиники, где не было больных. Свыкнувшись с новым положением вещей, она попросила хоть какую-нибудь работу, чтоб не сойти с ума. Ей доверили глажку в прачечной, и она проводила там долгие часы, выглаживая высоченные стопки белья. Она молча выслушивала монотонные жалобы прачек – на мужей и детей, на бытовые неурядицы, и думала, до чего они далеки от настоящих проблем и как же счастливы, что не осознают этого.
Прознав о ее математическом образовании, Сильвию вызвали в бухгалтерию клиники, чтобы она помогла со счетами. Там она быстро освоилась: аккуратная и обязательная, за короткое время изучила по учебникам бухучет и большую часть работы со счетами и документацией взяла на себя.
Раз в месяц к ней приезжали родители – чаще видеться им не разрешалось. Сильвия, боясь расстроить их еще больше, не открывала причин, по которым попала в клинику. Объяснила все неврозом и обещала, что скоро ее выпишут. Мать с отцом, оберегая ее душевный покой, не рассказывали о хамском приеме, устроенном им зятем, и о том, как он выпроводил их из квартиры, не дав даже взглянуть на внучку. Все их попытки забрать дочь из клиники раз за разом терпели неудачу, а однажды, когда мать Сильвии, отчаявшись, разрыдалась в кабинете главврача, тот бросил в сердцах: «Вы бы радовались, что она здесь, какая уверенность, что там, на свободе, – он кивнул в сторону затянутого металлической решеткой окна, – она была бы в безопасности?»
– Да что же такое она совершила, за что ей может грозить опасность? – побледнел отец.
Главврач пожал плечами.
– Возможно, не за того человека вышла замуж?
Отца своего в живых Сильвия не застала – он умер за два дня до ее выписки из клиники. Судя по тому, как все было спешно обставлено, причиной выписки стал именно его скоропостижный уход. В Иджеван ее, по распоряжению главврача, доставили на карете скорой помощи. Она сидела на жесткой лавочке, вцепившись в ее острые края, и разглядывала обшарпанный салон машины. Заметив удивительно знакомую, в форме утиной лапки, царапину на обшивке потолка, она пыталась вспомнить, где видела ровно такую же, и наконец сообразила, что именно на этой машине ее два года назад привезли из Иджевана.
В ногах Сильвии стоял крохотный фанерный чемоданчик, который она выпросила у сестры-хозяйки. Она придерживала его пяткой, чтобы он не отъехал в сторону – машину нещадно мотало на резких поворотах серпантина. В чемоданчике лежали две смены белья и бутерброды с докторской колбасой, которые ей наспех сообразили в столовой, потому что она уезжала, не успев позавтракать. В кармане жакета, завернутый в тетрадный лист, лежал лоскут пеленки. Он всегда был с ней: ночью она прятала его под подушкой, а днем носила в отвороте рукава больничного халата. Сильвия не сомневалась, что сохранила разум благодаря этому лоскуту и визитам родителей.
Добравшись до Иджевана, она сразу же помчалась в собственную квартиру. На звонки никто не открывал, и она, устроившись на подоконнике, приготовилась ждать. Соседка, проходя мимо, поинтересовалась недовольным тоном, что она делает на лестничной площадке, а на ее удивленное «Разве я так изменилась, что ты меня не узнала?» всплеснула руками: «Как же ты осунулась, одна тень от тебя осталась!» Она отвела Сильвию к себе, напоила кофе, рассказала, что Ромик женился и перебрался в собственный дом, а эта квартира уже год как пустует.
– Как там… моя дочка?.. – спросила одними губами Сильвия.
Соседка, любящая вкусно и плотно поесть, расплылась в умиленной улыбке:
– Хорошенькая такая, пухленькая. Будто испеченная на сливках и топленом масле булка.
И она повела руками, изображая воздушный, умопомрачительно пахнущий круг сладкой выпечки.
Сильвия, поблагодарив за кофе, стала прощаться. Соседка порылась в сумке, протянула ей рубль – больше дать не могу, Сильвия-джан! Но она замотала головой – ну что ты, деньги есть! Деньги у нее действительно были, пятьдесят рублей одной бумажкой, выданные ей главврачом клиники, она спрятала в карман фанерного чемоданчика. Она не хотела их брать, но он настоял и, помогая ей взобраться в карету скорой помощи, повинился скороговоркой: «Ты прости, пожалуйста, что все так вышло, я человек подневольный, у меня семья…» «Я все понимаю, – мягко оборвала она его и, приобняв, прошептала на ухо: – Я никогда не забуду вашей доброты».







