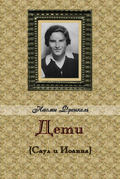Наоми Френкель
Смерть отца
В церкви на холме звонят колокола, возвещая наступление вечера. Но звуки эти не в силах одолеть дух Оттокара, ведь эти колокола отлил бес – Иоханесс Черный Медведь.
Оттокар кланяется могиле Детлева. Стоит в молчании несколько минут у свежей могилы тетки. Затем начинает спускаться по тропе к городку, чтобы вернуться в Берлин, в странноприимный дом Нанте Дудля.
* * *
Оттокара встречает городской шум и гомон толпы. Сегодня базарный день. С утра сюда приехали крестьяне продавать свои товары, а теперь к вечеру они катят по мостовой улицу Рыбаков на тарахтящих телегах к трактиру Нанте Дудля. Хозяин громко приветствует гостей.
– Добро пожаловать, петушок! От всего сердца! – протягивает Нанте руку крестьянину, и лицо его сияет.
– Поздравления? По какому поводу? – удивляется крестьянин.
– Чему ты удивляешься? Разве у тебя не родился сын, петушок?
– Когда, Нанте? Жена моя на пятом месяце беременности.
– Какая разница? Так или иначе, он должен скоро родиться.
– Твоими бы устами мед пить. Сын. Да кто знает, что там творится у нее в чреве?
– Слушай, петушок, хочешь, чтобы я научил тебя проверенному способу родить сыновей? Слушай знатока этого дела. Не повезет на этот раз, гарантировано тебе, что в будущем пойдут из чрева твоей супруги одни сыновья.
Приближает Нанте Дудль голову к крестьянину и нашептывает ему на ухо совет, пока тот не хлопает себя по щекам и разражается смехом.
– Да брось ты, Нанте, клоун сын сына клоуна, душа из тебя вон, да усладятся уста твои, извергающие столь мерзкие вещи. В жизни я еще так не смеялся.
Давняя дружба связывает Нанте с гостем. Берет Нанте под уздцы его коня и ведет в конюшню во дворе, изображая на своем лице невинность.
– Не петушись, дорогой мой дружище, грех на мне тебя обманывать. Я готов доказать тебе делом, что совет мой верен. Глаза твои могут в этом убедиться, петушок, – и Нанте указывает на своего первенца Бартоломеуса, слоняющегося между телегами со своим товарищем Густавом.
«Цветущий Густав» – владелец маленькой ручной тележки, на которой развевается надпись на куске белой ткани: «Без труда и терпенья нет цветенья!». Отсюда и имя – «цветущий Густав». На своей тележке он везет домохозяйкам жирный чернозем и продает им для заполнения вазонов и ящиков для цветов. Зимой и летом на голове его соломенная шляпа и шорты вместо брюк. Лишь только видит Густав Нанте Дудля, ведущего коня, мгновенно улетучивается его благостное настроение.
– Нанте! – разражается он страшным криком. – Оставь коня в покое!
– Это почему, позволь тебя спросить? Это что, дикий конь, Густав?
– Какой дикий? Падаль, от легкого толчка опрокинется копытами кверху.
В мгновение ока возникает великая ссора во дворе Нанте Дудля между крестьянином, защищающим честь своего коня, и «цветущим Густавом», острым на язычок.
Во дворе Нанте Дудля кудахчут куры, гомонят голуби, а у дверей дома сидит на цепи злой донельзя пес Николас. На крыше конюшни растянуты для сушки кошачьи и кроличьи шкуры. Нанте Дудль стоит рядом со своим Бартоломеусом, и оба развлекаются ссорой до тех пор, пока во дворе не появляется Линхен. С красным от работ и забот лицом она обращается к мужу:
– Нанте, чтоб тебя черт побрал, Нанте! Ресторан полон, а ты бездельничаешь и делать ничего не хочешь!
Нанте Дудль слышит голос доброй свой женушки и бежит в ресторан.
Крестьяне, лодочники и просто люди с улицы набились в помещение – все они давние друзья Нанте Дудля. Усталые крестьяне сбросили ботинки и разлеглись на грубых деревянных скамьях. На столах разложили еду, которую обычно приносят из дому – круглые коричневые буханки хлеба и огромные жирные куски свинины. У доброй Линхен они всего-то берут стакан желтого пива и тянут его малюсенькими глотками, вызывая у Линхен гнев. Она считает, что эти крестьяне приносят ее делу одни убытки. Веником она выметает песок, скопившийся от крестьянской обуви. Всей душой она с лодочниками и корабельщиками. Эти приплывают на своих суднах, оседлывая волны реки, одежды у них цветасты, радуют глаз. Это веселый, легкий на подъем народ, тяготы жизни которых смягчает река, придавая легкость их походке. Как урожденные берлинцы, труженики Шпрее, любят они шутку, смех, вино и песни. Они щедры. Нанте встречают с радостью и кликами.
– Добро пожаловать, Нанте Дудль!
– Ты мужественный парень, Нанте Дудль!
– Мужественный? Это почему же?
– Не каждый смертный осмелится ходить на таких тонких спичках, как твои ноги!
Нанте отвечает им громким смехом. Шутливая атмосфера царит в ресторане. Лишь бритоголовые крестьяне с короткой щетиной на щеках, делающей их похожими на ежей, равнодушно взирают на шутки, смех, веселье у прилавка Нанте Дудля, откусывают и жуют большие куски свинины. Зубы их, подобно пилам, вгрызаются в мясо, глаза усиленно мигают при этом.
Около маленького столика сидит граф Оттокар и следит за происходящим. Он вернулся усталым и присел успокоить нервы. Руки его поигрывают солонкой. Он вглядывается в замкнутые лица покорно, по-коровьи жующих крестьян, и видит уважаемого тайного советника Иоанна Вольфганга фон Гете, сидящего на его месте.
«Здесь не пой моих песен», – нашептывает на ухо внутренний голос.
– Здесь нет, здесь нет! – громко говорит граф.
– Что, господин граф? Чего здесь нет? – спрашивает его «цветущий Густав», стоящий недалеко и услышавший слова графа. Тут же возникает «граф Кокс», придвигает стул ближе к Густаву, бросает подозрительный взгляд на графа и шепчет Густаву:
– Ты можешь приехать за землей, Густав. Ночью мы снова копали…
– И нашли? – спрашивает Густав с большим интересом.
– Ничего не нашли, – отвечает «граф Кокс». – Но мы близки к находке.
– Что они ищут? – спрашивает граф-скульптор.
– Клад, граф. Они живут в старом еврейском дворе. И одна мысль сверлит слабую голову «графа Кокса»: богатые евреи зарыли серебро и золото под камни. И все это спрятано для него. При полной луне он выходит со всей ватагой своих сыновей копать в поисках клада. Мне это выгодно, – смеется Густав, – они добывают мне чернозем для моего бизнеса.
– Такого я еще не слышал! – говорит граф.
– Почему, господин? У человека должна быть хоть одна надежда в жизни.
Граф вперяет скучный взгляд в лицо шутника и неожиданно спрашивает:
– Густав, сможешь ли ты дать мне совет? Я ищу место в рабочем квартале Берлина для памятника Гете. Ты, конечно, читал объявление о конкурсе, объявленном муниципалитетом Берлина.
– Ой, Иисусе, граф, – заходится долгим зевком Густав, – и это мне тоже надо знать. Все столбы и афишные тумбы залеплены этим дерьмом к выборам.
– Минуточку, Густав. Я ведь только прошу у тебя совета. Ты же знаком с Берлином.
– Густав? – смеется шутник. – Кто с ним знаком, если не я. Я знаю каждый его уголок. – Лицо его становится серьезным. – Граф, хотите знать Берлин? Найти убежище среди переулков для вашего Гете? В этом все дело. Я покажу вам Берлин. Густав проведет вас по всему городу.
– Когда?
– В любой час. Нет у меня срочных дел.
– Завтра?
– Завтра, – соглашается Густав.
– Нанте! – зовет граф своего друга. – Две рюмки коньяка.
Новый стишок висит над прилавком Нанте, только недавно вышедший из-под его пера:
Одиночка –
Никто – и точка.
Но еще один кто-то –
Это уже что-то.
Граф и Густав осушают рюмки. И ночью развлекает Нанте Дудль своих гостей, играя на губной гармонике. И у распахнутых настежь дверей собралась толпа – послушать его игру.
У леса, у лесочка
Забудусь я. И точка.
Отца не вспомню я
И мать не вспомню я.
Забудется семья.
Себя я сберегу,
От смерти убегу.
Я снова юн. И точка.
Песни Нанте Дудля всегда печальны, и все старики на улице Рыбачьей отирают глаза от слез. Корабельщики затихли, пьяницы замерли в стойке у стойки, и река сопровождает шорохом вод пение Нанте. На горизонте развевается мегаполис знаменами света. Дождь прекратился, и ночь окружает глубокой синевой. Небеса близки и звезды велики.
Глава пятая
Утро встает над скамьей под липами. На крышах зданий все еще клубится туман. Облысевшие липы напрягают ветви, подобные спицам оборванных зонтиков. Скамья пуста и заброшена в эти сумрачные от тумана утренние часы. Прошедшая суровая зима, жестокая к городу, покрыла скамью плесенью.
Но переулок пылал красным от флагов и пестрел листовками. Флаги скрипят древками на утреннем ветру над большинством балконов, а окна провозглашают свою приверженность серпу и молоту. Мать Хейни – сына-Огня повесила в окне выцветший красный флаг своего покойного мужа, прикрепив к нему две черные ленты, знак траура по своему убитому сыну.
Флаг этот был единственной вещью, которую ее муж добавил к имуществу молодой семьи. В те дни он работал на железной дороге и глаза его привыкли к свету дальних пространств. То были дни бесчинств, дни социалистов. По вечерам товарищи тайком прокрадывались в дом, тасовали карты, бросая их на стол, гадая, что произойдет в мире. Флаг он отдал ей на хранение. Она завернула его в ткань, как пеленают младенца, и спрятала в подвале. И это была тайна, которую они лелеяли вдвоем, и это согревало их жизнь. Он, благословенной памяти, ставил свои огромные тяжелые кулаки на стол, и с доброй улыбкой говорил ей:
– Храни его как зеницу ока, голубка моя.
Муж не дожил до революции 1918 года, когда она шла с демонстрантами, высоко держа этот флаг. То же сделал и ее сын, когда республика была в опасности, в дни путча Каппа. И был сражен пулей полицейского. Черные ленты развеваются в багрянце флага, и с успокоившимся на миг ветром безмолвно сворачиваются на флаге, как руки матери на груди.
Разгневался Отто на эти черные ленты, которые портят праздник и чернят переулок.
– Старуха, – читал он ей проповедь, – ты думаешь, меня трогает, что ты хоронишь республику этими черными лентами? Ведь по вине этой республики умер Хейни, и кто, как не я, плачет вместе с тобой по этому поводу? Не буду носить траур по этой республике, если она исчезнет. Но, старуха, дни эти не дни траура, а дни войны. Поддерживать дух людей надо, а не вытряхивать из них душу. Ты приносишь большой вред своей партии этими черными лентами. И не только партии вредишь, лицо всего переулка режешь под корень твоими черными крыльями.
Старуха опускала голову и разводила руками. Отто замолкал, видя страдания женщины.
Рассеялись дождевые туманы. Тайная рука разогнала тучи во все стороны. Весеннее солнце взошло в небо Берлина. Омолодился переулок. Открываются окна, и между развевающимися флагами возникают непричесанные головы. Голоса не умолкают днем и ночью. Старики выходят посидеть на завалинках у домов. Часть из них ушла на тот свет в эту жестокую зиму, часть забрали в дома престарелых. Никто не обратил внимания на их исчезновение. Жизнь продолжается, женщины поутру бегут за покупками. Бруно выходит из дверей своего трактира, вытирает стекло витрины с розовыми телесами жирной Берты. У выхода из трактира стоит широкобедрая Флора, присматривая за мужем.
На горе, между скал,
Разразился скандал.
Друг друга гномы били —
Блин не поделили.
Звуки несутся из переулка. Косоглазый обрел новую профессию – стал шарманщиком. Сопровождает его человек в кепке и точильщик. Втроем они поют.
Голос Ганса Папира подпевает шарманке:
В лунную ночь
Мне с милой невмочь,
Прижму и запылаю,
Добьюсь, чего желаю.
Ганс Папир стоит на крыше своего дома. Там он соорудил кормушку для птиц, которые через месяц должны вернуться из дальних краев. Он поет свою песенку для девиц, которые идут под ручку на работу. Женщины в окнах закатываются хохотом от его песенки. Девицы повизгивают, поднимают головы к крыше и показывают ему язык, и Ганс еще усиливает голос. Безработные и нищие, которые только сейчас вышли из ворот странноприимного дома «армии Спасения», присаживаются на скамью, жуют черный табак и тоже поднимают головы к Гансу Папиру, поющему на крыше:
В лунную ночь
Мне с милой невмочь,
Прижму и запылаю,
Добьюсь, чего желаю.
Отто тоже поднимает голову к крыше, лицо его искажено гневом:
– Иисус, снова этот угорь извивается на крыше.
Ганс Папир недавно поселился в переулке. Он снял подвал сапожника Шенке, который попросту исчез из переулка. Странные вещи творятся в эти дни. Люди исчезают, и никто не знает, где они находятся. Пауле потянул за собой куда-то пьяницу Шенке. Госпожа Шенке старалась много не спрашивать, большой радости от мужа она не испытывала, сдала в наем подвал Гансу Папиру, который открыл там магазин для продажи птиц и рыб. Жители переулка, любящие всем давать клички, прозвали его – Пип-Ганс, кружатся вокруг подвала, вглядываясь в чирикающих птиц и немых рыб, прислушиваются к хриплому лаю пса, проживающего с Гансом и лающего целый день. Сам же Ганс большую часть дня стоит у входа в подвал, провожает взглядом каждую женщину и девушку, бросая им вслед сальные шуточки и соответствующие куплеты.
У него большое мускулистое тело, маленькая головка и узкий лоб. Глаза мутные, водянистые, выходящие из орбит, как шарики, что вот-вот выкатятся наружу. Лицо бледное с дряблой кожей, как у больного. «Специалисты» переулка с особым вниманием присматриваются к его коже и переглядываются с многозначительными улыбками.
– Кожа у него такая, – ставят они непререкаемый диагноз, – из-за того, что много времени провел в темноте.
Они покачивают головами, дружески хлопают его по плечу:
– Это пройдет, дружище, это пройдет.
При этих словах большой его кадык перекатывается в горле от волнения.
Все жители переулка уже знают, что на Ганса Папира открыто дело в полиции, и что он совсем недавно вернулся из тюрьмы. Байки о нем передаются из уст в уста и растут со дня на день. Флора подвела итог этим байкам коротким резюме:
– Люди, что вы ковыряетесь в его делах и все выдумываете, когда все тут ясно, как день. Посадили его за решетку из-за женщин. Вы что, не видите, что только ими он и занят?
Отто отнесся к нему с неприязнью с момента его появления.
– Тело у него нечеловеческое, а голова – угря, – сердито повторял он.
Отто в эти дни занят делами. Над его киоском развеваются четыре красных флага, а четыре стенки заклеены огромными плакатами. На прохожих со всех сторон взирает Тельман в старой кепке. С раннего утра стоит Отто среди этих флагов и плакатов и ораторствует перед собравшейся у киоска публикой. У мужчин много свободного времени. С момента, как погиб Хейни сын-Огня, в переулке не найдется хотя бы один рабочий, имеющий ежедневную постоянную работу. Есть у Отто перед кем произносить свои доказательные и показательные речи.
– Доброе утро, Отто! Доброе утро!
Отто обходит киоск, отирая тряпкой утреннюю росу с лица красного вождя Тельмана.
– Доброе утро, Отто! Доброе утро!
Масса людей собирается у киоска Отто. Мужчины останавливаются по дороге в бюро пособий по безработице. Женщины, идущие за покупками, собираются на углу с товарками – почесать языками. Дети бегут в школу с шумом и гамом. Красавец Оскар покручивает тростью, горбун приходит из трактира вместе с долговязым Эгоном, который сейчас работает грузчиком на вокзале. Горбун Куно в последнее время сильно вознесся, и никто не может понять, по какому праву. Давно уже не занимается розничной торговлей, болтается без дела целыми днями по улицам и трактирам, не перестает болтать, и денег у него куры не клюют. Улица полнится слухами о нем.
У киоска постукивает каблучками Эльза. На ней весеннее цветастое платье и шляпа с широкими полями, покачивающаяся на ее голове в такт дразнящим, танцующим ее бедрам.
– Красиво, – поглядывает на нее косоглазый, облизывая губы.
– Красиво? – орет Отто. – Это красиво? На это косят глаза в такие дни? Лучше поглядите на наш переулок, люди, каким он стал красивым! – Указывает Отто на принаряженный переулок. – Шаловлив он, наш переулок, немного красного – и грязи как и не бывало.
Отто напрягает тело, готовясь произнести речь. Но тут его прерывает Ганс Папир. Увидев с крыши собравшуюся толпу у киоска, он решил к ней присоединиться.
– Верно, как верен этот день, Отто! Переулок зелен в эти дни. С крыши видно.
– Ты что, дальтоник?! – вскрикивает Отто. – Видели такого, не разбирающего цветов? Цвет красный, а не зеленый. Красный!
– Как это красный, Отто? – изумляется дальтоник Ганс Папир. – Ты хочешь сказать, что флаги на твоем киоске – красные?
– Человек, раскрой глаза! Исправь-ка свое перевернутое зрение. – Лицо Отто багровеет от гнева. – Ты что, не видишь красного знамени?
– Но, Отто, я вижу зеленое, и такое красивое зеленое!
– Убирайся отсюда! – выходит Отто из себя. – Убери свои копыта.
Громкий хохот взрывается у киоска. Веселье в разгаре.
– Пошли со мной, – горбун берет под руку Ганса, – пропустим стаканчик у Флоры.
Долговязый Эгон тянется за ними.
– Свояк свояка видит издалека, – швыряет Отто вдогонку троице.
Трактир пуст. Между столиками крутится Бруно с неизменной сигарой в зубах и метлой в руках. Флора приказала ему к вечеру убрать паутину из углов стен. Трое усаживаются у большого окна, так, что все происходящее на улице открыто их взгляду. Флора все еще стоит у входа и следит за происходящим. Бруно приносит стаканы с пивом и тоже становится у входа.
– Куно, – обращается Ганс Папир к горбуну, – между нами, разве эти флаги у Отто не зеленого цвета?
– Зеленые, конечно ж зеленые! – решительно подтверждает горбун.
– Почему же Отто все время утверждает, что они красные?
– Почему? Тоже мне вопрос. У Отто все красное. Даже черное.
– Ну, что ты говоришь? – обижается Ганс Папир. – Я бы и подумать не смог, что Отто такой. – Ганс делает большой глоток пива.
– Но, Куно, – пытается долговязый Эгон установить истину.
– А ты заткнись! – прерывает его горбун. – Кто-то спрашивал твое мнение?
– Иисусе Христе, как Отто волнуется, – говорит Флора у дверей.
– Люди, – кричит Отто у киоска, – была бы хоть щепотка разума в ваших затылках, вы бы не задали даже одного вопроса. Рабочий отдает свой голос рабочему, и точка. Кто защитит ваши интересы, если не рабочий, обладающий душой рабочего? А? Или ничего не понимаете? Я ли не знаю клубок червей, шевелящийся в ваших затылках? Несомненно, есть среди вас такие, которые считают, что старый генерал владеет знаниями и опытом и понимает рабочего, как я и вы? Ха-а! – Отто прерывает свою речь и окидывает хмурым взглядом толпу слушателей.
– Ага! – поясняет Флора у дверей своего трактира. – Генеральша тоже там.
Кличку «генеральша» однажды дали Эльзе. Сидела она среди женщин на скамье, говорила о том, что ее Пауле исчез вместе с Шенке и стал настоящим генералом, командующим войском. Дикий хохот потряс скамью. Генерал! Глядите, каких высот достигла эта лгунья! Рассмешила нас эта, раскидывающая ноги перед любым кобелем! А пьяница Шенке, значит, – заместитель генерала, и хриплым своим голосом помогает Пауле командовать войском. Скамья раскачивалась от смеха. Только госпожа Шенке стояла вдали, уставившись сердитым взглядом в Эльзу. С этого дня смертельная ненависть вспыхнула между этими двумя женщинами.
– Генеральша, – с презрением смотрит Флора на Отто.
– Вы что, не слышали, дурачье, как этот старый хрыч, генерал, владелец свиных стад в восточной Пруссии, бесстыдно похваляется тем, что в жизни ничего не читал, кроме книг про войну и мобилизацию? Дело его связано с жизнью? Дело его связано с убийством! И на него вы возлагаете ваши надежды?
– Как здорово говорит Отто, – шепчет косоглазый точильщику.
– Отто прав! Прав во всем!
У киоска усиливается гам. Лица людей становятся все более хмурыми и злыми. В трактире у окна троица допила свои первые стаканы пива.
– Теперь, – провозглашает горбун, – душа просит чего-то крепкого. Принеси-ка нам, Бруно.
Горбун одет как человек состоятельный, даже брюшко появилось у него, как у буржуя. Взгляд Ганса Папира уперся в цветастый галстук горбуна. Долговязый Эгон подремывает над стаканом. Ночью таскал пакеты на вокзале, и усталость его одолела. Ганс взирает на крышу и что-то бормочет про себя. В трактире тишина, из крана капает вода, кошка тоже погружена в дрему.
– Люди! Люди! – доносится голос Отто словно издалека. – Вы, конечно, раззявите рты, слушая перлы, изрекаемые Гитлером? Насытите каждое утро ваши пустые брюха извержениями этого «святого» рта? Я вас отлично знаю! Всему можно поверить, что говорят о вас! Всему! – окидывает Отто хмурым взглядом толпу.
– Слушай, – приближает горбун голову к Гансу Папиру, – дело есть вечером, для тебя. Понимаешь, в одном зале будут речи, и, вероятнее всего, начнется скандал. Люди власти настроены… – горбун смотрит на мускулы Ганса.
– Скандал? По какому поводу? Почему?
– Не задавай много вопросов. Скандалы теперь случаются каждый день.
Лицо Ганса бледнеет:
– И полиция будет? – шепчет он.
– Вероятнее всего, будет. Эти же суют свой нос в любое дело.
– Если там будет полиция, меня там не будет, – решительно говорит Ганс Папир.
– Иисусе, – жалуется Флора у дверей, – сегодня Отто просто не закрывает рта.
– Все вы пустозвоны! – кричит Отто около киоска. – Ваши мозги искривлены и пусты, так, что их можно заполнить любым мусором. Кто здесь сказал, что евреи виноваты? Чепуха и суета сует! Разве не сказал уже Август Бебель, что антисемитизм это социализм дураков? Старик был прав. А вы… Вера покинула ваши сердца, и это – все. Люди, поймите! Вера – главное в жизни. Пока человек верит, он остается человеком. Улетучивается вера, им овладевают страсти.
– Ты стал трусом, Ганс, – говорит горбун, – но это тебе не поможет. Сидящий перед тобой, – горбун стучит себя в грудь, – знает вредные твои страсти, так или иначе он извлечет тебя из подвала. Лучше тебе идти со мной…
– Заткнись! – вскакивает Ганс со своего стула, хватает горбуна за галстук и дергает к себе со стула. Внезапно глаза его расширяются. – Какого цвета твой галстук?
– Красного, – лепечет горбун, – главным образом, красного.
– Ложь! – кричит Ганс Папир. – Зеленого цвета, как флаги Отто! Ты лжешь! – и он сжимает горло горбуна галстуком. Рот Куно раскрывается. Над ним – угрожающее лицо Ганса.
Флора подбегает и тянет Ганса Папира за пальто:
– Не начинай тут скандалить, слышишь меня? Сейчас приведу двух «синих», – указывает она на двух полицейских, которые присоединились к толпе слушателей Отто.
Ганс Папир оставляет горбуна и выскакивает на улицу. Как безумный, бежит в свой подвал.
– Гансхен сделал нам пип! – скандирует ватага юных хулиганов.
Ганс врывается внутрь ватаги, хватает большими своими руками тех, кто постарше, и яростно раздает тумаки налево и направо. Глаза его стекленеют, как у пьяного, и пена пузырится на губах. Дети визжат и убегают, прячутся во входах домов, в безопасных углах, и продолжают скандировать:
– Гансхен сделал нам пип! Гансхен сделал нам пип!
Эхо разносится по переулку, возвращается от стен домов, выводя Ганса из себя. Пустота возникает вокруг него. Около киоска люди поворачивают головы.
– Ганс Папир бесчинствует! – разносится шепотом по рядам в толпе у киоска. Пустота все более расширяется вокруг Отто. Все бегут, все рвутся через шоссе. Круг медленно замыкается вокруг бесчинствующего Ганса. Любопытные набегают со всех сторон, из всех дверей и ворот. Даже мясная лавка евреев открылась. Евреи стоят у входа в темных пальто, и госпожа Гольдшмит удерживает Саула, пытающегося вырваться из ее рук. Мелкие торговцы в синих фартуках сбегаются на шум.
– Что случилось в переулке?
Переулок полон боевыми криками. Ганс Папир лупит своего противника, и все вокруг ввязываются в драку.
– Бей, Ганс! Бей!
– Покажи им свою силу, Ганс!
– Пип-сын-силы!
Со всех сторон несется свист. Оскар вращает своей тростью над головами людей, широкополая шляпа Эльзы смялась, Флора закатывается смехом, пес Ганса Папира хрипло лает и скребется лапами в окно подвала, испуганные воробьи взлетают с телефонных проводов, госпожа Шенке убегает и прячется среди газет Отто.
Горбун мечется, как голодный пес, между людьми, исчезает и возникает, а за ним весело тянется длинный хвост мальчишек.
– Ай да Ганс! Ай да Пип! Ах, какой веселый тип!
Переулок ревет. Голосов не различить.
С грохотом опускаются жалюзи на окнах еврейской мясной лавки.
Безмолвна лишь афишная тумба со своими развевающимися прокламациями и портретами кандидатов в президенты страны – Тельмана, Гинденбурга, Гитлера. Над беснующейся толпой из окна выглядывает лицо матери Хейни сына-Огня. Черные ленты обернулись вокруг флага, опавшего на древке.
Среди толпы орущих наблюдателей стоит граф Оттокар в обществе «цветущего» Густава. В углу рта Густав держит роскошную сигару, подарок Оттокара, и равнодушно наблюдает за беснующимся Гансом. В голове Оттокара сливаются, словно в странном танце, обрывки картин – посверкивающий монокль в глазу отца, усачи-охотники, крестьяне, жующие огромные куски свинины, Тельман, Гитлер, Гинденбург и море красных флагов.
– Иисусе, – раздается женский голос за его спиной, – сумасшествие в эти дни, как эпидемия чумы, – и голос этот слышится единственно нормальным среди всего рева и гама.
– Ты, Клотильда? – слышит граф голос стоящего рядом Густава. – Я и не заметил, в каком приятном обществе мы здесь находимся.
– И ты здесь, Густав?
– Нет гулянки без Густава, – снимает Густав шляпу и поводит ею в сторону Ганса.
– Шутки в сторону, Густав, – голос у нее приятный, глубокий, – этот Ганс болен, душа у него больна опасной болезнью. Что скажешь, Густав?
– Клотильда, я всегда говорю то же, что говоришь ты.
Оттокар поворачивает голову в сторону низкого голоса. Рядом стоит высокая крепкая телом женщина с длинными, цвета соломы, волосами. Глаза светлые, голубые и большой широкий рот.
– Клотильда Буш, – представляет ее Густав. – Граф, стоило вам прийти сюда лишь для того, чтобы познакомиться с Клотильдой Буш, даже если вы не найдете здесь место для вашего старика Гете.
Светлые глаза глядят на него скучающим взглядом.
– Ганс Папир, полицейские! Полицейские нагрянули!
Группа полицейских врывается в толпу. Долговязый Эгон увидел их первым, бежит к другу и хватает его за руку.
– Ганс, полиция!
В тот же миг замирает Ганс по стойке смирно. Смущенный и испуганный, смотрит он на окружившую его и тоже замершую толпу. Опускает голову, словно собирается разрыдаться.
– Это снова на меня напало, Эгон, – говорит он другу плачущим голосом.
– Пошли домой, Ганс, – говорит Эгон печальным голосом. – Теперь ты должен отдохнуть.
– Не говорил ли я тебе в трактире, что это у тебя здесь, – стучит себя в грудь горбун, – стоит все же тебе прийти вечером в аудиторию, Ганс. Надо ведь немного развлечься.
– Разойтись! Разойтись! – кричат полицейские, и резиновые нагайки посвистывают в воздухе.
На тротуаре остаются лишь граф-скульптор, «цветущий» Густав и Клотильда Буш. Снова поднимаются жалюзи на витрине еврейской мясной лавки.
Одиноким остался Отто около своего киоска. Руки его скрещены на животе. Смотрит в расцвеченный флагами переулок, опять останавливает взгляд на черных лентах, развивающихся на ветру. Переулок безмолвен.
– Пойдем к Отто поговорить по душам, – предлагает Густав.
– Ни в коем случае, – говорит Клотильда Буш, – первым делом надо выпить.
Они пересекают улицу по пути к жилищу Клотильды Буш – обширному подвалу с множеством комнат. Клотильда не знает, кто дал ей это длинное красивое имя. Однажды найден был на пороге городского сиротского дома ребенок, родившийся месяц назад, закутанный в чистое одеяло, и на клочке бумаги, привязанном к маленькой ручке, написано было черными чернилами имя «Клотильда». Фамилию Буш прибавили ей в сиротском доме. В возрасте четырнадцати лет она сбежала из жестокого сиротского дома, не взяв с собой ничего, кроме гибкого сильного длинного тела и красивого лица. Этим она нашла заработок в избытке в большом городе, почти сразу же став «королевой переулков». И, казалось, она достигнет невероятных высот, если бы не ее горячее и чувствительное сердце, которое исходило жалостью к каждому бездомному бродяге. Найдя такого, она тут же тащила его в свой подвал, кормила, согревала своим красивым телом. Как только приходил тот в себя и обретал облик человека, она сразу же меняла его на другого бродягу. Только к таким существам было расположено ее сердце. Деньги, которые всегда были у нее в избытке, она тратила на этих отверженных жизнью, и никогда не тянулась душой за красивыми преуспевающими мужчинами, которые не стояли за ценой, покупая ее любовь, и не один предлагал ей быть его наложницей. Неизвестно, каким образом, но в дни войны эта «девица переулков» из подвала попала на фронт, и перед ней открылись ворота госпиталей, ведь была она почти неграмотной. Так или иначе, Клотильда Буш стала сестрой милосердия, и всю душу свою отдавала самым несчастным – безруким и безногим, потерявшим лицо. Она была любима солдатами, врачами и сестрами. Дни на фронте были самыми счастливыми в ее жизни, и с окончанием войны волосы ее стали желтее, глаза более блестящими, а большое тело еще более прямым и красивым. Но когда она вернулась в свой подвал и необходимость в ней отпала, исчез из ее глаз блеск, и она стала как-то странно двигаться, левое плечо искривилось, и левая ладонь вытянулась, как будто просила милостыню. На долгое время она закрылась в подвале, не откликаясь на многих, рвущихся к ней. Сразу же распространился слух, что Клотильда вернулась, и все обитатели переулков пришли поприветствовать ее и вернуть ей корону. И все же в один прекрасный день она открыла им двери, и с тех пор вернулись к ней прежняя стать и блеск в глазах. Но решительным образом она сообщила, что отныне она отрекается от статуса «королевы переулков» и открывает в своем подвале гостиницу, которая была открыта всем униженным, преследуемым и бездомным. Никого из них никогда не спрашивала, откуда он явился и куда собирается направиться. Полиция не осмеливалась ее тронуть и вообще входить в подвал. Все жители переулков защищали Клотильду. Все представители преступного мира готовы были душу за нее отдать. Они были записаны полицией как члены «Объединений по вольной борьбе» и называли друг друга «братьями». Полиция не трогала эти «объединения». По необходимости Клотильда прятала у себя в «гостинице» этих «братьев». Они это хорошо помнили, и с их щедрой помощью она могла содержать у себя бродяг, которых собирала по переулкам. В эти предвыборные дни Оскар и Отто приводили сюда «политических», на которых полиция положила глаз.
– Ганс Папир, – говорит Клотильда Оттокару и Густаву, идя с ними рядом, – я его ненавижу. Вы не знаете, что творит этот угорь. Мне рассказывала госпожа Шенке. Два раза он вытаскивал слабую птичку из клетки и давал на растерзание котам. И становился тогда веселым, и скакал от радости при виде поедаемой жертвы. Ты ведь не знаешь, Густав, за что он сидел в остроге много лет?