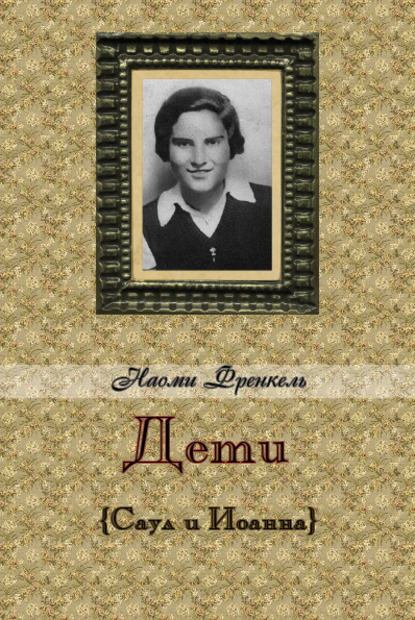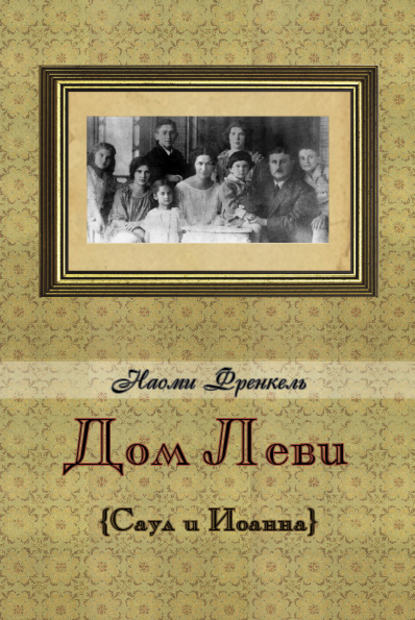
- Рейтинг Литрес:5
- Рейтинг Livelib:4.5
Полная версия:
Наоми Френкель Дом Леви
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Наоми Френкель
Дом Леви
первый роман трилогии
Саул и Иоанна
перевод с иврита Эфраима Бауха
О Наоми Френкель, классике ивритской литературы
Наоми Френкель (1920-2009) родилась в Германии, в ассимилированной еврейской семье, предки которой были изгнаны из Испании. В 1934 году, с приходом нацистов к власти, семья эмигрировала в Палестину.
Наоми воспитывалась в иерусалимском учебном центре-усадьбе Рахели Янаит Бен-Цви, жены второго президента Израиля. Оттуда, вместе с группой молодежи, влилась в кибуц Бейт-Альфа в Изреельской долине, где жила и трудилась до 1982 года. Затем переехала в поселение Кирьят-Арба, рядом с Хевроном.
Известность пришла к ней с публикацией первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна». Роман «Дом Леви» вышел в 1956 году и удостоился премии Рупина. Второй части – «Смерть отца», вышедшей в 1962 году, присуждена была премия Усышкина, а третьей части «Сыновья» в 1967 году – премия главы правительства.
Наоми была редактором «Дневника» знаменитого героя войны за Независимость Меира Хар-Циона, которого Моше Даян назвал самым великим еврейским солдатом с древних времен. Ее комментарии к «Дневнику» вызвали большой общественный интерес.
В 1969 году она мобилизовалась в подразделение морских коммандос и прослужила в военно-морских силах Израиля семь лет. В эти же годы вышли в свет ее книги «Ваш дядя и друг Соломон» (1972), «Юноша вырос на берегах Аси» (1976), «Рахель и зрачок» (для детей, 1975).
После окончания войны Судного дня она записала и отредактировала краткий отчет обсуждения итогов войны в штабе военно-морских сил (800 страниц), который по сегодняшний день не разрешен к публикации.
После выхода в свет продолжения романа «Ваш дядя и друг Соломон» – романа «Дикий цветок», Наоми переехала в поселение Кирьят-Арба, где написала два исторических романа – «Баркаи» (1999) и «Мул» (2003).
За большой вклад в ивритскую литературу Наоми Френкель удостоена престижной премии Ньюмена за 2005 год.
Перевод ее дилогии «Ваш дядя и друг Соломон» и «Дикий цветок» на русский язык является значительным событием в культурной жизни нашей страны.
Трилогия «Саул и Иоанна» вошла в классику современной ивритской литературы. Первый роман трилогии «Дом Леви» сразу же после выхода в свет стал бестселлером.
Романы повествуют о Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы.
Роман вызвал бурную реакцию в литературной среде совсем еще молодого государства Израиль. Известнейший израильский критик Барух Курцвайль, отличающийся строгостью, можно сказать, даже жесткостью в подходе к литературе, высоко оценил творчество Наоми Френкель. В статье «Еврейство Германии глазами Наоми Френкель», опубликованной в газете «Аарец» в 1962 году, он писал:
«Мы имеем дело с истинным природным талантом… заполняющим еще не освоенные «эпические пространства». Перед нами – опыт прорыва за узкие пределы израильской прозы, пока еще единственный в нашей молодой литературе. В тематическом плане здесь проступает огромная и глубокая новизна. Впервые на языке иврит показано изнутри еврейство Западной Европы».
Следует отметить, что в стиле автора нет ничего лишнего, никакой перегруженности. В этом стиле превалирует слияние реализма и лиризма. Даже романтические чувства, возникшие между Филиппом и Беллой, еврейкой Эдит и нацистом Эмилем Рифке, описаны сдержанно и уравновешенно, с тонким чувством меры. Последовательно и глубоко исследуется медленное втягивание немецкого народа в плен сатанинского очарования Гитлера и нацизма.
Трилогия отличается глубоким проникновением в изгибы и закоулки душ героев – главных и второстепенных – в государственные, общественные, экономические процессы, изображенные в соответствии с духом времени. Создавая широкое эпическое полотно, автор поднимается над автобиографическими деталями собственного детства девочки, родившейся в ассимилированной еврейской буржуазной семье.
В трилогии прослеживается соответствие героев повествования их прототипам в реальности. Отец Иоанны Артур Френкель, офицер германской армии, был отравлен газом во время боев Первой мировой войны, что и свело его безвременно в могилу. И любимая его жена тоже ушла в 39 лет из жизни, став жертвой эпидемии, охватившей послевоенную Европу. История «вороньей принцессы» также взята из жизни. Многие эпизоды повествования реальны, как, например, воодушевление, охватившее Иоанну от ханукального представления в клубе сионистского Движдения. После этого Иоанна не захотела выступать в роли ангела Иисуса на празднике Рождества в школе.
С усилением нацистской партии семья оказалась в тяжелом положении. И старший брат Иоанны Гейнц, в отличие от всех остальных членов семьи видящий, к чему все движется, пытаясь спасти семейное дело – металлургическую фабрику – хотел ввести в это дело приближенного к нацистам адвоката Функе, сделав его компаньоном и тем самым сняв название фирмы «Леви и сын». На этот раз положение спас дед Яков Леви.
И хотя первый роман трилогии заканчивается на оптимистической ноте, читатели знают, что за 1931 годом наступил 32, а за ним – 33, год начала Катастрофы.
Перипетиям Дома Леви в эти последние годы старого мира посвящены следующие два романа эпопеи – «Смерть отца» и «Сыновья».
Мы видим, что и спустя годы книги Наоми Френкель привлекают читателя не только увлекательным сюжетом, живыми персонажами и фотографическим описанием эпохи. Приходится констатировать, что поднятые ею проблемы до сих пор стоят перед евреями Израиля и Диаспоры.
Поэтому книги писательницы всегда находят отклик в сердцах читателей.
Но это не значит, что романы Наоми Френкель замкнуты в национальной проблематике.
Как каждый большой писатель, она поднимает общечеловеческие проблемы.
Теперь и русскоязычный читатель сможет оценить ее творчество.
Доктор Ципора Кохави-Рейни
биограф писательницы Наоми Френкель
Посвящаю трилогию «Cаул и Иоанна» вознесшейся в небо душе Израиля Розенцвайга, благословенной памяти, чистейшей душе в моей жизни, любовь моя к которой вечна
Глава первая
Скамья стоит между несколькими липами, отстаивающими свое существование в самом центре огромного города. Они почернели от уличной пыли, кора их стволов покрыта вырезанными в ней руками влюбленных сердечками, пронзенными стрелой Амура. Скамья стоит на узкой полоске зеленой травы, и весной там прорастают сезонные растения – майские цветы, главным образом, фиалки.
Липы, скамья и мелкая травка вокруг них это центр бедного квартала. Прохожие, не живущие в в нем, и не предполагают, что следует как-то по особому отнестись к зеленой скамейке. В любое время вокруг нее сигналят автомобили, скрежещут по рельсам трамваи, пьяницы прикладываются к бутылке, рассевшись на скамейке. Жители квартала суетятся вокруг нее, кто-то сидит на ней, кто-то стоит около, и в течение дня она всегда занята.
Утром ее занимают безработные, каких много в этом квартале. Сидят: куда им идти? Они переполнены жаждой деятельности, глаза бегают, провожая каждого идущего, у кого, очевидно, есть какая-то цель, – и так в течение всего дня. В полдень скамейку занимают дети, возвращающиеся из школы, обычно парами, болтают о том, о сем, смеются и дерутся. Здесь они задерживаются перед тем, как вернуться в свои серые от нищеты дома. Но истинная жизнь на скамье начинается только после полудня: тогда ее занимают женщины. Они приносят с собой запахи кухни, селедки, лука, свиного жира и картошки. Они приходят, усаживаются, достают вязанье, и работа начинается. Руки их, почерневшие от чистки картофеля, соревнуются в скорости движения с их устами. Тут собираются женщины со всего квартала, все-то они знают, обо всем судачат, всех судят, всему завидуют. По субботам сюда приходят и евреи из соседского квартала. Сидят на скамье, перебирают прошлое, когда были богатыми, мечтают о будущем, когда снова разбогатеют.
Да и ночью не дают скамье отдыха. Когда город вспыхивает огнями, скамью окутывает таинственная темень, влекущая к ней влюбленные пары. Сидят они на этих зеленых стертых досках или, за неимением места, прижимаются к липам. В темноте каждая пара как бы обосабливается, и скамья прислушивается к любовному шепоту и запретным столь сладким стонам.
Когда же расходятся и эти, остается всегда один, бездомный, свернувшийся в ветхом своем пальто, нашедший себе убежище на ночь на этой скамье.
Итак, от утра до утра, скамья занята, являя собой, как бы, душу квартала.
Напротив скамьи – переулок в два ряда ветхих домов. Стекла их окон подобны глазам, потускневшим от плача, и обитатели их также серы, как их стены. Лик переулка всегда зол. Самые дерзкие лучи солнца, пытаются иногда прорваться в переулок, но тут же проглатываются уличной пылью. С наступлением сумерек зажигаются в городе тысячи ярких уличных фонарей. Газовые фонари в переулке роняют тусклый свет. Переулок этот подобен пасынку в огромном городе.
Утром заря восходит медленно-медленно. Свет фонарей бледнеет и исчезает. Полусумрак еще скрывает дома переулка, но огромный город уже полон шума, движенья, многолюдья. Группа за группой выходят рабочие из дверей своих домов, у каждого сверток подмышкой, лица припухшие, и глаза еще полны сна. Они присоединяются к длинному потоку, извивающемуся вдоль улиц, будят бездомного бродягу на скамье. Он тут же надевает свое ветхое пальто и присоединяется к потоку, как некое его звено, явно призрачное и лишнее. Быстрей! Быстрей! Город проглатывает толпы рабочих.
В этот час переулок все еще дремлет. Только Отто уже открыл свой киоск на углу улицы. Он хозяин этого известного в квартале киоска, продает жвачку, сигареты, книжечки про сыщиков и коммунистические газеты. Им переулок открывается и им завершает свой день. Отто знает всех, кто выходит отсюда и кто приходит. Резвый мужичок-с-ноготок в кепке и с платком в руке, чтобы стирать пыль, он в свободную минуту между двумя разговорами или дискуссиями вертится, как юла, вокруг киоска, вытирает каждую книжку, каждую банку и даже газету. Эта работа не прекращается ввиду того, что переулок все время вздымает клубы пыли. Забот у Отто полон рот, вот он говорит, вот что-то мастерит, стирает, приклеивает, отгоняет малыша, вступает с кем-то в спор.
У Отто две постоянные темы, о которых он не прекращает говорить: великая любовь и великое разочарование. Великая любовь – к партии, и великое разочарование – в жене. Эти две темы не оставляют его в покое. C двумя вещами Отто никогда не расстается. С кепкой, которую он все время передвигает справа налево, и наоборот, и с белой охотничьей собакой Миной.
О-о! – говорит Отто и подмигивает Мине, которая всегда пребывает в окружении множества поклонников, не перестающих лаять и кусать друг друга из ревности к ней, – вот, псина дурная. Как сумела так втереться к людям! Сучка, как и все девки переулка.
В часу седьмом утра начинают звонить колокола, и тут переулок просыпается. Фриц, сын трактирщика, появляется со своей ватагой. Четырнадцатилетние подростки только что закончили учебу, а работы нет. Нет такой дыры и такого угла, где бы они не толпились, нет такого ругательства, которое бы не слетало с их губ, и нет такой пакости, в которой бы они не участвовали. Утро за утром ватага собирается на скамейке под липами, чтобы затем двинуться в город по каким-то своим срочным делам, и каждое утро Отто использует эти короткие минуты их пребывания под липами для поучений.
– Мерзавцы! – набрасывается он на них. – Падаль! – начинает он ораторствовать. – Да вас надо учить и воспитывать, вы же, молодая смена Германии!
Тем временем молодая смена занимается собиранием окурков от сигарет, набросанных за ночь.
– Отто, – прерывают они его речь, – выскажи свое мнение об этом окурке.
Показывают ему половину сигареты. Это обычно швыряет Пауле, этакая грязная макаронина. Сумел кого-то надуть, и с тех пор курит только половинки сигарет. Тут вся ватага срывается с места и исчезает из вида.
В этот час собираются у киоска Отто все безработные переулка. Прочитывают заголовки газет, косятся на пачки сигарет, и тут начинается треп.
– Германия, – говорят молодые, – проклятая страна. Бросает на произвол свою молодежь.
– Германия, – говорят другие, – чиновники ее имеют уши, да не слышат, имеют глаза, да не видят. Слово человеческое не войдет им в сердце и в ум. Только проклятые правила и законы управляют этим чиновным людом. А попробуй увильнуть, тотчас же твоя физиономия выглянет из окошка тюрьмы.
– Германия, – кричат все разом, – должна стать другой.
– Красной! – возглашает незнакомец, сжав кулак.
– Коричневой! – отвечает другой отрицающим жестом.
– Только не этой проклятой Веймарской республикой!
Победителем в этом споре всегда выходит Отто.
– Фашисты, – мечет он громы и молнии в своих противников, – ничего-то вы не смыслите, и никогда ничего не поймете. И день за днем становитесь все более мерзкими и дурными. Да разве можно что-либо объяснить этому отребью?
И Мина, видя, как ее хозяин разбушевался до того, что руки его трясутся, и он все сбивает кепку справа налево и слева направо, бросается ему на помощь лаем и завыванием, и это разносится по переулку с одного его края до другого. Наконец, ей удается заткнуть рты всем противникам ее хозяина.
А в часу восьмом утра, точно, изо дня в день адвокат доктор Филипп Ласкер выходит на улицу из своего огромного дома, чьи окна глядят прямо на скамью под липами, у выхода из переулка. Это самый привлекательный дом квартала. Обитатели его – лавочники, хозяева разных магазинов. У каждой квартиры небольшой балкон, на котором хозяева выращивают бегонии и помидоры в зеленых ящиках. В часы досуга, весной или летом, хозяева восседают каждый на своем балконе с большим чувством самоуважения. По сути, лишь они обозревают свысока жизнь переулка, видят всех, занимающих скамейку, и каждому из них перемывают косточки. Эти же, что находятся внизу, также изучают и оценивают тех, кто сидит на балконах. И бдительные, шумные соседские отношения связывают обитателей скамейки с обитателями балконов.
Клубы пыли – единственные, кто абсолютно равнодушен и к тем и к этим, и стараются очернить и липы, и бегонии. Домохозяйки жалуются на это, высказывая все свои заботы перед Отто.
– Раскрой пошире глаза, Отто, и посмотри на балкон доктора Ласкера, – пустыня, как будто там нет вообще живой души, и это накладывает мерзость запустения на весь дом.
– Гусыни, – набрасывается на них Отто, – он что, бездельничает, как вы! С утра до вечера и с вечера до утра он хлопочет по делам своих клиентов. А гусыни эти приходят с всякими обвинениями.
Домохозяйки быстро убираются восвояси, и балкон доктора Ласкера остается пустынным и заброшенным, ибо Отто прав: неотложных дел у доктора Ласкера всегда полным-полно. Он является адвокатом всей еврейской общины, известным уважаемым бизнесменом и, можно сказать, душевным другом Отто. Вот и сегодня останавливается у киоска:
– Доброе утро, Отто, есть новости?
– Уйма! – и Отто раскладывает перед доктором газету «Красное знамя»: «Воровской совет в кафе»! – секрет раскрыт, решение не ожидается. Нападение на продавца одежды Крузе во Дворце развлечений по улице Канта – сбит с ног неизвестными и ограблен на 570 марок, нападавшие – сынки зажиточных берлинских семей, не имеющие профессии, тянущие из родителей деньги на игры в казино и другие развлечения…»
– Что говорить, доктор Ласкер, вот она многоликая столица Германии! «Многоликая», я бы сказал, на первый взгляд.
Отто сдвигает кепку справа налево и бросает взгляды на безработных, сидящих на скамейке, как всегда взирающих на небо в попытках предсказать свой завтрашний день:
– Запах разложения ударяет в нос, говорю я вам, идет он из этих затхлых домов. Тихо, Мина. Тихо! Отстань от полицейского! Ох, эта собака, доктор Ласкер, до чего научилась уподобляться людям. Каждый полицейский для нее как заноза. Гниль проникает в костный мозг всех этих обитателей переулка. Вот, к примеру, мой друг Пауле, истинным коммунистом был всегда, а теперь уже несколько месяцев без работы. Жена у него и двое деток. Так что, сидеть ему целыми днями в стенах дома и смотреть на мрачных своих домочадцев. Так он днями и ночами просиживает в подвальчике Эльзы. И так все! Прямой дорожкой – в трактир. Превращаются в воров, шлюх, готовы подобрать любую крошку, которую швыряют в их всегда раскрытые рты определенные партии. Говорю я вам, доктор Ласкер, у них размягчаются мозги, ничего не понимают и никогда не поймут. Да и за этим кварталом то же самое. Тут серость напускает туман в их мозги, там золото застилает глаза. Страх Божий! Запах разложения не дает дышать, весь город гниет.
Отто повышает голос, перебрасывает кепку справа налево и слева направо, руки его дрожат, он охвачен сильным волнением. И Мина, у которой тем временем появились два новых ухажера, начинает выть, а за нею – и они.
– Тихо, Мина! Тихо! Чертова сука! Не фашист он, а доктор Ласкер. Тихо! Так оно, доктор, Мина умница, но ум у нее женский…
Отто приближается к опасной теме – женщине, жене, и доктор Ласкер старается быстро распрощаться с ним.
Переулок уже отошел от сна. Евреи толпятся у мясной лавки господина Гольдшмита, пятого дома от края переулка. Долго рассматривают колбасы, висящие в окне. Заходят.
– Здравствуйте, госпожа Гольдшмит, сколько сегодня стоит салами? Что, так дорого?
Евреи потирают руки, ну, конечно, кто может в такое время себе позволить есть салами? Каждый грош на счету, это же страна миллионов безработных. Шастают по улицам парни в коричневых рубашках, орут на проклятых евреев. Оставляют они лавку. Захлопывают двери. Колышутся колбасы в витрине, как маятник или как колокола, пытаясь заманить покупателей. Но евреи бегут мимо, нет у них отдыха. Евреи напуганы, боятся за свои дела.
У доктора Ласкера тоже нет времени разглядывать колбасы в витрине, и он быстро заскакивает в лавку – там ведь за прилавком стоит его сестра, обладательница большого тела, госпожа Гольдшмит, небрежно одетая с ног до головы в какие-то чуть ли не лохмотья.
– Розалия, – не первый раз пытается доктор Ласкер преподать ей урок, – ну, посмотри на себя. Что это? Ты что, всегда будешь ходить в этих грязных обносках?
– Нет у тебя других забот? – кипятится сестра. – Что я, какая-то кокетливая девица, чтобы принаряжаться? Я замужняя женщина, у меня ребенок. И нет у меня, слава Богу, недостатка в неприятностях.
– Покупатели, Розалия, – пытается урезонить сестру доктор Ласкер. – Какая польза в том, что они тебя видят всегда в таком виде?
– Покупатели? Да у них уйма забот и неприятностей помимо моего платья.
Женщина, острая на язычок и проворная в деле, госпожа Гольдшмит. Глаза у нее зеленые, как у дикой кошки, позволяющие быстро улавливать желание клиента и ловко управляться в деле.
– Филипп, – говорит она брату, – начались летние каникулы. Что я буду делать с ребенком все эти дни? Сидеть целыми днями на скамейке в обществе воров и шлюх? Беда на мою голову, почему Бог наказал меня – растить детей среди этой черни? Ну, ты, почтенный адвокат, дай совет, что делать с ребенком? Денег-то в кассе кот наплакал. Беда на мою голову и на всю мою жизнь! В конце концов, ничего путного из него не вырастет.
– Об этом я и хотел тебе сказать, Розалия. Сегодня я поведу Саула в дом Леви. Там уже есть двое детей его возраста. Полагаю, они найдут общий язык и проведут хорошо летние каникулы.
Доктор Ласкер входит в соседние комнаты. Небольшой узкий коридор ведет из лавки в столовую и одновременно спальню Саула и деда, весьма преклонного возраста. В комнате две кровати и квадратный стол, покрытый застиранной скатертью. На гвозде у двери висит рабочая одежда господина Гольдшмита, в которой он отправляется на бойню. На диване с красной обивкой – белая подушка, книга Псалмов и биржевая газета. Все вещи, кажется, набросаны случайно. Около окна на сплетенном из тростника кресле сидит дед. Год за годом сидит он так, в одиночестве, и смотрит во двор, в маленький темный квадрат, но весь день полный суеты. Когда дед был моложе, а Саул совсем малышом, поручено было деду следить за ребенком. Дед качал его на коленях и напевал ему песенку:
Мир – чужбина,Сердце – льдина,Старики – преставились,Молодые – состарились.Дед любил эту песенку и напевал ее печальным дрожащим голосом. И Саул пугался, что «дед плачет песенку», но дед не всегда плакал. Когда во двор приходил «кайзер Вильгельм», дед радовался. Кайзер был одет в форму солдата германской армии. Был бледен, вероятно, от многочисленных жертв Первой мировой войны. Он являлся во двор в сопровождении пса и громко пел знаменитую «Стражу на Рейне». Тогда дед открывал окно и угощал «кайзера Вильгельма» кофе, хлебом и колбасой. Черта у «кайзера Вильгельма» был чудесная: умел внимательно слушать собеседника. И каждый раз дед пересказывал ему события своей жизни. Дед говорит, говорит, говорит. А «кайзер Вильгельм», облокотится о подоконник и молчит, молчит, молчит. В конце концов, глубоко вздохнет и скажет:
– Были времена… Да, были времена…
И тогда дед тоже вздыхал и снова становился печальным.
Мать Эльзы также часто посещала деда. И в ее обществе дед любил вздыхать. Подвальчик Эльзы был прямо напротив окна деда. В те дни Эльза была самой красивой из девушек переулка. Кудри у нее были рыжие, очи – черные. Ах, какими прекрасными были те дни! Сколько гостей было у Эльзы. И тогда ее мать покидала подвальчик, дед открывал ей двери, и они вели беседы, а вернее, всегда спорили.
– Как ты не стыдишься и разрешаешь дочери идти этой дорогой, такой красавице с таким добрым сердцем!
– Разве она не пыталась пробовать другие профессии? – повышала старуха голос. – Не пыталась трудиться? Служанкой была. Но и что с ней сделали ее хозяева? Именно это, но бесплатно. Нет выбора, нет выхода. – Глубоко вздыхала старуха, и дед – за ней.
Нынче дед совсем стар и тяжело болен. Совсем усохший и скорбный, сидит он в кресле, руки его дрожат, говорить он не может. Теперь поручено Саулу следить за ним. Он купает деда, кормит и понимает каждое его движение. И уже нет друзей старика. «Кайзер Вильгельм» внезапно ушел в мир иной, и мать Эльзы больше не приходит. Да и сама Эльза уже не самая красивая среди девушек переулка, и гости ее поредели.
Доктор Ласкер здоровается с отцом кивком головы и проходит в кухню. Там сидит мальчик лет десяти и ест свой утренний бутерброд, мальчик светловолосый с карими глазами. Не причесан, всклокочен и немыт, и если бы не мечтательный взгляд, могло бы возникнуть подозрение, что он еще тот хулиган.
– Доброе утро, Саул!
Мальчик отвечает также кивком головы. Он скрытен и замкнут, и напрасное дело пытаться вытянуть из него слово.
– Саул, как ты собираешься провести каникулы?
– Не собираюсь.
– Хочешь поехать сегодня со мной проведать друзей? Тебя ожидает там масса удовольствий.
– Можно попробовать, – и нет никакого знака на лице Саула, указывающего на то, что он загорелся предложением дяди.
– В два приду за тобой. Тебе стоит до того времени переодеться.
Будильник на кухонном столе вызванивает девять утра. Доктор Ласкер торопится, час поздний. Множество дел, как всегда, не дают ему покоя. Через заднюю дверь он выходит во двор, там стоит Эльза у окна подвала и стирает белье. Она напевает колыбельную песенку «Птичка в гнезде», и голос ее дрожит, словно он покачивает ребенка в своих объятиях. Но никогда не было у нее ребенка и никогда не будет.
Сегодня чудесный летний день, но переулок темен. Пыль поглощает солнечные лучи. Лишь иногда высвечивается окно, на которое наткнулся луч в своем мимолетном движении. На скамейке же – солнце в полном разгаре. Пришла очередь уличных подростков. Веселье, возня и смех. Отто сидит и, как обычно, читает им мораль:
– Босячки, выучите песню. Надо вас научить хотя бы одной. Ну-ка:
Господин Цергибель, похваляясь фраком,Пляшет в туфлях, покрытых лаком.Подростки орут разными голосами. Проносятся автомобили. Позванивают трамваи. Пыль поднимается до небес, но кто на это обращает внимание – скамья шумит и голосит:
Господин Цергибель, похваляясь фраком,Пляшет в туфлях, покрытых лаком.На какие шиши?Да, на наши гроши!И Отто дирижирует шумной капеллой с явной гордостью.
Глава вторая
Дом этот, как полагает Саул, заколдованный дворец, которым повелевают черти и привидения. Стоит дом в глубине погруженной в дрему площади. В самом ее центре, можно сказать, пуповине ее, – небольшое озеро между плакучими ивами, концы ветвей которых погружены в воду. Это аристократический квартал. Раньше здесь жизнь била ключом, но кайзер приказал долго жить, и пожухло величие аристократов. Молодежь покинула, упорхнув из квартала, и остались лишь старики. На окна особняков опустились жалюзи, словно веки, прикрывшие глаза. Вьющиеся растения и клумбы стали дичать. И подобна теперь площадь спящей королевской дочке, которая ожидает поцелуя, чтобы восстать из сна.