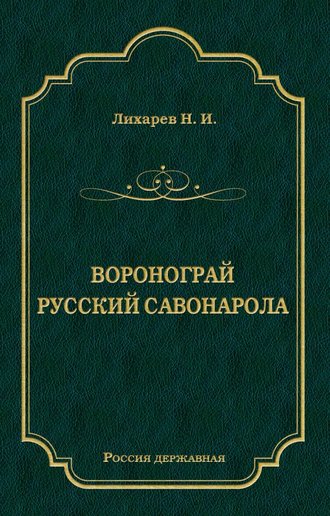
Н. Лихарев
Воронограй. Русский Савонарола
Глава II. Быть худу!
Шумливая и пьяная Масленица подошла к концу. Всю неделю гуляла-веселилась Москва. На площадях и улицах – у кабаков и кружал – день и ночь стоном стояли в воздухе гомон и крики расходившихся гуляк.
Наступил канун Великого поста.
Почти совсем затихло на московских улицах; изредка разве попадется пьяный, кабацкий ярыга и завсегдатай, он и в Прощеное воскресенье опохмелиться не прочь, да не на что больше – последнюю копейку вчера ребром поставил…
Отошла обедня.
Разошлись по домам знатные и незнатные, богатые и убогие – и всюду справлялся один и тот же обычай. Вернется из церкви хозяин, соберет всех домочадцев и у всех со слезами прощения просит. Ходят и знакомые друг к другу, кланяются в землю обоюдно, каются во взаимных обидах…
В этот день после обедни государь и великий князь московский Василий Васильевич в сопровождении бояр и ближних людей ходил в Архангельский собор. Перед каждой из гробниц своих предков государь останавливался, делал земные поклоны и «прощался». Вернулся к себе государь далеко после полудня. Вернулся, навестил мать-княгиню и жену, обеим поклонился в ноги.
– Прости и нас, государь великий! – со слезами на глазах отвечали обе княгини, кланяясь земно великому князю…
С женской половины государь прошел к себе в горницы.
Бояре ближние, стольники, постельники, кравчие, дети боярские и вся палатная челядь по двое, по трое появлялись на пороге государевой горницы и просили у великого князя прощения.
А гордый, надменный государь московский все это время стоял на ногах и в ответ на земные поклоны кланялся в пояс и отвечал смиренно:
– Прости и меня, друг, коли в чем согрешил пред тобой!..
После обряда государь скромно потрапезовал и удалился на покой…
Вечерело. Погода стояла с утра солнечная и ясная. Кудрявые облака, розоватые от заходящего солнца, казалось, застыли и остановились на бледно-голубом небе.
Золотые черепицы кровли великокняжеских хором, купола и маковки бесчисленных кремлевских церквей то там, то здесь ярко вспыхивали в последних солнечных лучах.
На государевом дворе кипела работа под наблюдением боярина-дворецкого: конюхи выводили и чистили лошадей, вытаскивали из сараев тяжелые великокняжеские кафтаны.
Путный боярин озабоченно отбирал среди дворни наряд для завтрашнего государева поезда.
Завтра, в понедельник, ранним утром великий князь Василий Васильевич отправлялся на великопостное говенье в Троицкую обитель, наиболее чтимую государями московскими.
Дворецкий и путный боярин то и дело понукали челядь – надо было покончить засветло со всеми приготовлениями.
– В темноте-то, при огне, не доглядишь чего, – сердито говорил дворецкий, толстый боярин с красным лицом, – а завтра в дороге заметит государь, на нас гневаться изволит!.. Погодка-то, кажись, как и ноне, хороша будет, – добавил он, взглянув на розоватое небо, – гляди-ка, Семен Иваныч…
Товарищ его, молодой стольник, назначенный государем назавтра в путные, поднял голову и внимательно оглядел со всех сторон небо.
– Кажись, снегу не видно, – проговорил он, – коли только воронье не накличет… Ишь, солнце застелило, проклятое!..
Слова стольника заставили всех поднять головы.
Со стороны Москвы-реки неслась действительно целая туча воронья. Черные птицы с оглушительным карканьем закружились над двором и над высокими царскими теремами; хлопая крыльями и перекликаясь, воронье усаживалось рядами на церковных крестах, по конькам крыш и на остриях ограды великокняжеского двора.
Толстый боярин-дворецкий нахмурил брови и покачал головой.
– Не быть бы худу, Семен Иваныч! Смерть не люблю я этой птицы, – проговорил он, – чтоб ей, проклятой, на свою голову!..
– Все-то ты с приметами, Лука Петрович, – улыбнулся стольник, – уж и покричать-то вороне нельзя!..
Кругом засмеялись.
– Смейся, смейся, Семен Иваныч, авось на свою голову!.. – недовольно ответил боярин. – Ишь ведь орут как!..
Отдохнувшие птицы в эту минуту опять закаркали, поднялись разом со своих мест и через несколько мгновений уже исчезли в вечернем небе.
Приготовления к поездке были наконец закончены; оба боярина еще раз внимательно все оглядели и, отдав нужные приказания, пошли во дворец.
– Ты вот, Лука Петрович, не в обиду тебе будь сказано, по молодости на все зубы скалишь, – ворчал на ходу дворецкий, – а уж на что хуже приметы этой! Как в последний раз татарва Москву жгла – три дня кряду перед тем воронье над городом кружилось… И откуда только набралось проклятого! Словно туча, бывало, повиснет… Чуяли кровь православную!..
Смерклось совсем.
В небольшой царицыной светлице, убранной и устланной множеством ярких ковров, было тепло и уютно; от лампад, висевших на серебряных цепочках перед иконами в дорогих окладах, шел тихий и ровный свет.
В красном углу, под образами, сидела за столом великая княгиня Софья и вслух читала Евангелие. Жена Василия, княгиня Марья, полная, молодая еще женщина, и три боярыни внимательно слушали чтение.
Княгиня Софья, высокая, худая старуха со строгим и надменным лицом, на минуту остановилась и стала объяснять прочитанное.
– Сорок дней и ночей молился и изнурял себя Христос в пустыне, – говорила она, – оттого-то и мы должны шесть недель поститься и молиться о своих грехах…
Старая княгиня опять было принялась за чтение, но ее прервали. В горницу вбежала, запыхавшись, молодая боярыня.
– Матушка-государыня, вот беда-то, вот напасть-то! – прерывающимся голосом заговорила боярыня и всплеснула руками. – Пронеси мимо нас, Царица Небесная!..
Княгиня Марья и три боярыни испуганно повскакали со своих мест. Старуха Софья осталась спокойной.
– Какая там напасть, Авдотья, что ты несуразное мелешь? – строго взглянула она на молодую боярыню.
– Ой, беда, государыня-матушка, – торопливо начала рассказывать снова боярыня, – и откуда только взялась лихая?! Иду это я по сеням сейчас – в повалуше[4] была, – и встреться мне Лука Петрович наш… Такой-то идет сердитый да насупленный! Посмотрел это на меня да и говориь: «Все бы вам бегать только, ног не отбили еще? Вам-то веселье, а беда не ждет!..» Я и обмерла. «Какая ж такая беда, – говорю, – Лука Петрович?» Говорю это, а сама трясусь со страха. А Лука Петрович мне: «Нет еще беды пока – только была сегодня примета дурная! Были на дворе мы с Семен Иванычем, путным, парад назавтра справляли. И вдруг откуда ни возьмись воронье, видимо-невидимо! Остановилось над двором государевым да над палатами и ну кружить да каркать!.. Ден за пять, как татары в последний раз Москву пожгли, так же, как и ноне, воронье орало!..» А я и говорю: «Неужто, мол, татары опять придут, Лука Петрович?» А он опять: «А бог весть что будет… Разве узнаешь? Ты, – грит, – побеги, Авдотья Карповна, к княгине-государыне да и скажи: не обождать ли, мол, государю-то великому день-другой? Не ровен час…»
– Ой, матушки, страсти какие! – вскрикнула одна из боярынь. – Государыня-царица, уже ли ж князь-то великий поедет завтра?
Перепуганная до полусмерти княгиня Марья в изнеможении опустилась на скамью и залилась слезами.
– Ну, пошла хныкать Марья! – пренебрежительно махнула рукой свекровь. – Подумаешь, в самом деле, беда какая… А Лука Петрович твой – дурак старый, – обратилась она к боярыне, – сам, как баба, без приметы шагу не ступит да и людей морочит! Типун ему на язык, непутевому!..
Великая княгиня Софья, дочь знаменитого Витовта, литвинка по происхождению, была менее суеверна, чем русские женщины. Суровая по своему характеру, умная и дальновидная, она всю жизнь с презрением смотрела на московских боярынь, плаксивых и недалеких, не знавших ничего, что делалось за порогом их терема…
– Полно тебе, Марья, – продолжала старуха, – правду говорят люди: дешевы бабьи слезы, даром льются!.. И что вы за бабы такие! Я всю жизнь прожила да только раз, как под венец шла, плакала; а вы на дню по пять разов ревете! Мужу-то не докучай – пускай его с Богом едет!..
Но княгиня Марья воочию уже видела всякие страхи и не переставала плакать. Ей казалось, что беда уже наступила, грозная, неминучая…
Старуха опять принялась за прерванное чтение Евангелия. Из страха перед строгой свекровью княгиня Марья утихла и только минутами судорожно всхлипывала.
Княгиня Софья дочитала до конца главу, объяснила и ушла в свою горницу.
– Не докучай, говорю, мужу-то, Марья! – строго проговорила она, уходя.
Но только ушла строгая свекровь, как царица расплакалась пуще прежнего. Остановить было больше некому, а боярыни и сами каждую минуту были готовы заголосить.
– Сходи-ка к мужу-то, государю великому! Авось уговоришь! – говорила шепотом, утирая слезы, боярыня Авдотья.
– И то пойду, пускай свекровь-матушка бранится потом! – махнула рукой великая княгиня.
Она взволнованно накинула на себя поверх опашня соболью телогрею и торопливо вышла из светлицы.
Великий князь Василий только что встал после отдыха, когда жена вошла его горницу. Он сидел за небольшим столом и при свете тонкой восковой свечи прилежно читал Евангелие: надо было как следует приготовиться к великопостному говенью. Великая княгиня как вошла, так и бросилась на шею к мужу. Ни слова не говоря, она билась у него на плече, как подстреленная птица.
– Что ты, Марьюшка?! Что с тобой?! – полуудивленно-полуиспуганно произнес великий князь. – Али с детьми что?..
Всхлипывая и путаясь, княгиня рассказала мужу обо всем.
– Не езди, сокол мой ясный, – говорила она, – чует мое сердце, беда стрясется над тобой! На кого ты меня, сироту, с детьми оставишь!..
Слова жены смутили Василия. Надменный и заносчивый, когда чувствовал вокруг себя силу, великий князь робел и совсем падал духом, встречаясь лицом к лицу с опасностью. Не вышел он характером ни в славного деда своего, ни в мать, гордую княгиню Софью.
Василий старался успокоить плачущую жену, а у самого сердце сжималось от страха. «Дурная примета, – беспокойно думал он, – куроклик да это… что хуже!..»
– Полно тебе, Марьюшка, полно, родная, – говорил он. – Не поеду завтра, да и все тут!..
Княгиня понемногу успокоилась и ушла к себе.
Оставшись один, великий князь все больше и больше стал поддаваться суеверному страху. Попробовал он было снова приняться за Евангелие – не читается, так и стоят в голове слова боярина Луки: «Как пожгла татарва Москву, ден за пять до того тоже все воронье кружилось над городом, кровь чуяло!..»
Закрыл князь Василий книгу и собрался сходить к матери. Но в эту минуту в горницу вошел стольник.
– Государь великий! Владыка Иона к тебе жалует…
Василий обрадовался гостю и пошел к дверям навстречу митрополиту.
Митрополит Иона, старик с простым и умным лицом, благословил великого князя, а потом трижды с ним облобызался.
– Перед путем твоим, государь благочестивый, повидать тебя захотелось, – заговорил Иона, усаживаясь за стол против Василия. – Невелик путь и недолга разлука, а все же, я чаю, недели две пробудешь в обители… До свету выедешь, сын мой?
– До свету, владыка… – нерешительно ответил Василий. Ему было неловко сознаться перед Ионой, и он решил, что завтра просто отговорится нездоровьем…
Иона тихим, но внятным голосом стал говорить о значении и важности предстоящего говенья.
Облокотившись на руку, Василий старался внимательно слушать владыку, но, несмотря на старания великого князя, на его молодом болезненном лице, опушенном редкой белокурой бородкой, явственно проступали волнение и тревога, навеянные недавним посещением жены.
Не прерывая своей речи, митрополит несколько раз внимательно поглядел на своего слушателя; от взора владыки не скрылись старания Василия подавить вздохи, по временам просившиеся из его груди.
Иона остановился.
– Сын мой, – мягко прошептал он, – что-то ощущает твое сердце. А ныне, готовясь к великим дням, оно должно быть чисто и безмятежно. Что с тобой, государь великий?
Василий вспыхнул и отвернулся от проницательного взора архипастыря.
Он попробовал было уверять, что его сердце совершенно спокойно и ничем не смущено. Но сама несвязность его речи еще больше выдавала внутреннее состояние. Владыка покачал головой.
– Вся душа твоя на твоем лице, государь великий, – произнес он, – откройся мне, возлюбленное чадо мое, исповедь облегчает страдания…
Тихий голос и слова Ионы дышали, по обыкновению, такими искренностью и добротой, что Василий не выдержал и во всем признался владыке.
– Больно уж страшно, отче святой! А ну если поеду, да стрясется что?.. Вон Лука Петрович, дворецкий, говорит, что перед татарами, в последний раз, то же было… Вот я и думаю обождать день-другой…
На лице Ионы отразились огорчение и укоризна.
– Суеверие – грех, государь великий, – заговорил он. – Никому из людей, кроме святых угодников, не дано знать, что может быть с каждым из нас. Кто дерзает на это, тот безумно испытывает терпение и милосердие Божие! Нам ли, ничтожным, с нашим слабым разумом посягать на это?.. Страшиться надо грехов, а суеверный страх – тот же грех, ибо он соединен с недостаточной верой или с полным неверием в Бога… Кто верит, тот не страшится, зная, что и единый волос не упадет с нашей головы, коли это неугодно Господу…
Владыка вздохнул и на минуту остановился.
– Да и рассуди сам, сын мой. Говоришь ты: «Примета дурная, поеду – злое случится!» Хорошо… Коли по твоей примете должно быть что худое для тебя, так, может быть, оно, худое-то, и не в пути случится, а ты ехать не хочешь!..
– И то правда, отче святой, – смущенно сознался Василий, – мне и в голову того не пришло!..
Владыка посмотрел на него и улыбнулся своей кроткой улыбкой.
– Вот то-то и есть, чадо мое возлюбленное! Веришь и боишься, а сам не знаешь, во что и чего… Выкинь лучше мысли греховные из головы и поезжай завтра с Богом… Без Его воли ничто не случится с тобой, а от воли Его не уйти ни тебе, государю великому, ни смерду последнему!..
Владыка поговорил еще несколько времени с великим князем и, увидев, что тот совсем успокоился и ободрился, поднялся со своего места.
– Поезжай с Богом, благочестивый государь, – повторил он, – а мы здесь будем возносить за тебя смиренные молитвы наши!..
Он благословил на предстоящей путь Василия и вышел из горницы.
Посещение Ионы благотворно подействовало на великого князя. Страх его как рукой сняло. Он кликнул слугу и велел позвать дворецкого.
– Все ли у тебя готово, Лука Петрович?.. В ночь выедем! – бодро произнес Василий.
– Готово все, государь великий, – поклонился боярин, – только не лучше ли будет твоей милости обождать день-другой? Ноне…
– Слыхал, слыхал! – махнул рукой Василий. – Пустое, боярин! Коли что случится, так и дома случится… В ночь до свету выедем!
Боярин отвесил низкий поклон государю и молча вышел из великокняжеского покоя. На потном, красном лице дворецкого были написаны неподдельные тревога и смятение.
– Дай-то бог, чтобы все по-хорошему!.. Дай-то бог!.. – шептал он, проходя по темным переходам дворца.
Глава III. На пути в обитель
До рассвета еще оставалось часа три, когда постельничий вошел в государеву опочивальню. Неслышно ступая по ковру, боярин приблизился к царскому изголовью.
– Государь великий, – осторожно проговорил постельничий, – время вставать… К ранней ударили…
Василий проснулся. В горницу вошли еще несколько слуг из боярских детей. У каждого из них была в руках какая-нибудь принадлежность царской одежды, двое держали серебряную лохань и кувшин для умывания.
– Сразу в дорогу будешь одеваться, государь великий, или после службы? – спрашивал боярин-постельничий.
– Успеется еще, Демьяныч, – ответил великий князь, – и после службы времени хватит.
Из опочивальни великий князь в сопровождении слуг прошел в крестовую палату; здесь его уже ожидал в полном облачении домовый причт.
После обедни священник отслужил напутственное молебствие. Василий приложился к кресту и вернулся в свои покои.
Успокоенный владыкой, молодой государь хорошо провел ночь и чувствовал себя бодрым и свежим. От вчерашних страхов не осталось и следа, и Василий почти весело садился за утренний стол, около которого уже давно хлопотал дворецкий.
По обычаю, Василий велел позвать к столу путного боярина, стольника Семена Ивановича.
– А что, Семен, не видать воронья боле?.. – полушутливо спросил великий князь, когда путный садился за стол.
Стольник взглянул на государя и в том же тоне ответил:
– Не видать, государь великий. Должно, Лука Петрович распугал всех, – добавил он, бросив мельком взгляд на дворецкого.
Лука Петрович, такой же хмурый, как и вчера, досадливо крякнул.
Сознание, что наступил Великий пост, сдержало Василия от проявления дальнейшей веселости; он серьезно заговорил о поездке и не позволил себе больше ни одной улыбки…
После стола государь стал одеваться в предстоящей путь. Поверх атласного зипуна он надел малиновый бархатный кафтан, убранный золотым кружевом, а сверху чугу[5] с короткими рукавами по локоть и подпоясался богатым поясом, обернув его раза четыре вокруг себя. Красные сафьяновые сапоги были заменены мягкими ичигами[6] на теплом меху…
Высокая шапка с атласным белым верхом и околышем из соболя, перстатые бобровые рукавицы, шуба из чернобурых лисиц и богатый посох, украшенный каменьями, лежали наготове.
Василий пошел проститься перед отъездом с матерью и женой.
Обе княгини уже давно встали и в ожидании прихода государя сидели в той же светлице, что и вчера.
Княгиня Марья через своих боярынь уже знала, что Василия вечером посетил митрополит; знала, что муж снова решил ехать, и сидела бледная и расстроенная. В присутствии суровой свекрови она боялась громко выказывать свое огорчение; она сидела склонившись над пяльцами, и золотое вышивание было все смочено слезами княгини.
Старуха Софья встретила сына приветливо, но сдержанно; она вообще была не охотница до нежностей и ласк…
– Собрался, Вася? – посмотрела она на великого князя. – Ну и поезжай с Богом… Дело доброе, помолись и за нас, грешных…
Василий, несмотря на свой тридцатидвухлетний возраст, был все еще в полном повиновении у матери и в ее присутствии робел, как мальчик. Без ее совета он не решался ни на один шаг. Пробовал он было возражать или поступать самостоятельно – ничего не выходило. «Молчи уж, сынок!» – только и скажет, бывало старуха, и Василий тотчас же смирялся.
Софья очень любила сына, но не обманывалась на его счет. «В кого он такой уродился? – жалостливо думала она, глядя на болезненного, слегка сутуловатого сына. – Ни в меня, ни в отца не пошел, а до деда и рукой не достанет!»
Василий попрощался с матерью, поклонился ей трижды в землю и подошел к жене.
Княгиня Марья не выдержала; обняв мужа, она залилась громкими, отчаянными слезами…
– Не дури, Марья! – строго прикрикнула на нее свекровь. – Не в Орду муж едет, а ты как по покойнику воешь!..
Василий поцеловал жену и торопливо вышел из светлицы, но и в третьей горнице он еще слышал за собой отчаянные рыдания княгини Марьи. Василий на минуту остановился было, оглянулся назад, но потом махнул рукой и быстро пошел на свою половину.
На дворе было еще темно, но чувствовалась уже близость рассвета, когда великий князь в сопровождении бояр и стольников вышел на крыльцо.
Поддерживаемый с двух сторон под руки, Василий спустился по ступеням и уселся в крытые сани, обитые внутри мягкими и теплыми мехами.
Великокняжеская повозка была запряжена в две белые лошади, гусем. Переднюю лошадь держали под уздцы два кучера; они, по обычаю, должны были идти пешком.
Дворецкий подал знак; мелодично звякнули серебряные бубенчики и бляхи, украшавшие сбрую царских санников[7]. Великокняжеский поезд медленно двинулся к воротам кремлевского двора…
Боярин Лука Петрович обождал, пока поезд скрылся в воротах, вздохнул и стал подниматься на крыльцо.
– Дай-то бог, чтоб все по-хорошему! – прошептал он и, сняв свою высокую шапку, перекрестился на кресты кремлевских соборов и церквей.
Миновав Неглинные ворота, царский поезд двинулся по направлению к северным рогаткам, закрывавшим Ярославскую дорогу.
Москва начинала просыпаться. На небе уже погасли звезды, и город окутала предрассветная мгла февральского утра. В сыром воздухе уныло повис редкий великопостный звон, несшийся со всех концов Москвы.
Царский поезд растянулся на добрую четверть версты. Впереди шло человек тридцать скороходов с цветными фонарями в руках и освещали дорогу. За скороходами ехал верхом путный боярин, стольник Семен Иванович, с толпой конных вооруженных холопов; за отрядом слуг, в самой середине поезда, подвигалась великокняжеская каптана, окруженная десятком молодых боярских детей на конях и в богатых уборах. Непосредственно за каптаной государя следовала другая, поменьше, в которой ехали два малолетних сына Василия, Иван и Юрий, с дядькой-боярином. Несколько повозок, в которых сидели сопровождавшие государя бояре, замыкали собой поезд.
Навстречу то и дело попадались пешие и конные путники; москвичи поспешно сворачивали в сторону, снимали шапки и низко кланялись.
– На богомолье государь великий выехал! – говорили друг другу жители, провожая глазами последние повозки.
Поезд добрался наконец до рогаток и выехал из города.
Было уже почти совсем светло.
Слезы жены хоть и подействовали на великого князя, однако утреннее хорошее настроение еще не рассеялось. Убаюканный мягким покачиванием саней, Василий сладко задремал. Когда он очнулся, на дворе стоял уже белый день. Февральское солнце слепило глаза своим ярким светом и грело совсем по-весеннему.
Василий выглянул из возка и спросил ближнего боярского сына:
– Много ли отъехали, Василий?
– Пятнадцатую версту едем, государь великий! – снимая шапку, ответил спрошенный. – Часа через полтора Клязьму переезжать будем…
Великий князь приказал поднять задок возка. Спать ему больше не хотелось. Дорога шла березовым лесом; неширокая колея, проложенная еще в начале зимы, кое-где успела уже потемнеть под лучами февральского солнца.
«Весна дает себя знать…» – с удовольствием подумал Василий, оглядываясь кругом.
В лесу было тихо, только по временам раздавался слабый писк какой-нибудь маленькой, зимней птички.
Царский поезд выбрался на поляну; в стороне от дороги жалось несколько почерневших избенок. В воздухе запахло курным дымом.
С придорожных берез, где на верхушках темнелись неуклюжие вороньи гнезда, поднялись несколько черных птиц; вспугнутые людьми, они суетливо захлопали крыльями, наполняя воздух своим неприятным криком.
Василий поднял голову, и в ту же минуту ему вспомнились слова дворецкого: «А дней за пять, как прийти татарам, тучей стояло воронье над Москвой…» Вспомнил великий князь и отчаянные рыдания жены сегодня утром, вспомнил – и неприятное, тревожное чувство стало наполнять его душу… Через некоторое время страх до такой степени овладел им, что в голове его шевельнулась мысль: не вернуться ли назад?
– Сколько проехали? – спросил он у того же боярского сына.
– Клязьма видна, государь великий – ответил тот, указывая вдаль рукой.
«Половина пути… – мелькнуло в голове государя. – Вернуться разве? Стыдно больно… Засмеет мать, да и митрополит укорять будет… Поеду!» – решил Василий.
Скрепя сердце ехал он дальше, а мрачные мысли, словно злые недруги, теснились к нему со всех сторон.
«Что же будет-то, господи боже мой? – тоскливо думал великий князь. – Татары придут? Москву подожгут, жену и детей в полон возьмут?.. Да нет! – сейчас же успокаивал он самого себя. – Не может того быть, не для чего ханам злобиться на меня! Одарил всех сверх меры, деревень да сел роздал сколько!.. Не придет Улу-Махмет, друг он мне теперь!.. Так что же будет? – вставал снова перед ним вопрос. – С братьями опять нелады, что ли? И то непохоже! За Можайскими искони того не водилось… Разве Юрьевичи?.. Да и с ними счеты, кажись, окончены… Дмитрий-то совсем на житье в Москву переселился. «Не надо, – говорит, – и удела мне…» Шемяка разве?.. От него всего ждать можно. Да, опять, и он не пойдет больше на смуту. О Рождестве еще при митрополите святом говорил: «Пусть страшной казнью накажет меня Бог, коли рука моя поднимется на тебя, государь великий!» И крест целовал… Нет, не пойдет и он ни на что больше… И так уж довольно было меж нами! Вспомнить страшно, что было!»
Василий покачал головой, вздохнул и перекрестился.
«Да, много зла, – повторил он про себя. – Как дядя, Юрий Дмитриевич, жив был, ни одной, кажись, минуты покойной не было…»
Картины недавнего еще прошлого замелькали перед ним.
При отце покойном все было тихо, никто не смел перечить. Захворал отец, промучился с неделю да и отдал Богу душу… Страшная была та ночь!.. Он-то, Василий, совсем еще малым парнишкой был, двенадцати лет. Почувствовал отец смертного часа приближение, призвал Фотия, митрополита, бояр всех… «Василия моего в обиду не дайте, – стал он им говорить, – мал еще он, дитя совсем, а дядья рады изобидеть будут…» Бояре все крест на том поцеловали. Почитай, все потом клятву сдержали. Умер батюшка, поднялась смута… Дядя-то, Юрий Дмитриевич, и слышать не хотел, чтоб малолетний племянник стол московский занял. Поднялась вражда великая!.. Много о ту пору добра сделал Василию митрополит Фотий! Истинно святой человек был! Поехал он в Галич, дядю, Юрия Дмитриевича, вразумлять… Гордо принял его дядя. О мире и слышать не захотел… Разгневался на него владыка, уехал в тот же день из Галича, не дал благословения своего пастырского ни князю, ни жителям… И – велики чудеса Господни! – на другие же сутки начался в городе мор, какого отродясь никто не видал!.. Испугался дядя, поскакал догонять владыку. На коленях стоял перед угодником Божьим, прощенье вымаливал… Внял его слезам владыка, вернулся назад и благословил Галич – мор как рукой сняло!.. Смирился поначалу дядя, признал государем его, Василия. Три года прожил в мире… И опять досада дядю взяла. В тот год дед, Витовт литовский, умер, Юрий-то и набрался духу… Складную грамоту прислал. Решили наконец в Орду ехать – судиться…
Василий вспомнил про эту поездку и невольно улыбнулся.
Ловко их всех обошел тогда боярин Иван Дмитриевич. Юрий-то, дядя, в дружбу с мурзой Тегиней вошел, понадеялся на его силу у хана… А Иван Дмитриевич собрал остальных мурз да и говорит им: «Ваши просьбы ничего не стоят у хана, не выступить из Тегинина слова, по Тегинину слову дадут княжение князю Юрий, а коли сделает так хан, послушает Тегиню – что, мол, с вами со всеми будет? Юрий, мол, будет великим князем в Москве, в Литве – побратим его Свидригайло, а в Орде будет сильнее вас всех Тегиня!..» В самое сердце попал мурзам боярин. Побелели все с досады и зависти. «Не бывать, – говорят, – тому!» Все как один ударили мурзы челом хану: пусть будет Василий великим князем московским! Видит хан, все за Василия, разгневался на Тегиню, пригрозил ему смертью, коли снова упомянет про Юрия-дядю… А потом вскоре и суд хан прислал. Юрий-дядя говорил, что, мол, по старине – его права… Да и тут обошел его Иван Дмитриевич! Поклонился низко боярин хану да и говорит: «Князь-де Юрий ищет княжения по завещанию отцовскому, а князь Василий – по твоей ханской милости! Ты дал улус отцу Василия, Василию Дмитриевичу, а тот, милость твою к себе зная, сыну стол передал, и сын уже несколько лет княжит, а ты на него не гневаешься – стало, княжит по твоей милости!..» Хан-то и отдал ярлык ему, Василий. Дядя Юрий только обезденежился понапрасну…
И опять по лицу Василия скользнула улыбка.
Да… Все бы пошло хорошо, кабы не отъехал боярин Иван Дмитриевич. А как отъехал к дяде – все худо пошло. Нежданно-негаданно собрал Юрий войско и подступил к Москве. Что тут делать было?.. Послал он, Василий, бояр своих о мире толковать, а Всеволожский и говорить с ними не захотел. Собрали наскоро рать, только мало от этой рати толку было. Наголову разбил ее Юрий. А потом – бегство в Кострому… В Москве великим князем дядя, Юрий Дмитриевич. Тяжелые были дни… Коли б не смиловался дядя да не дал в удел Коломны, совсем бы ему, Василию, пропадать пришлось.
А в Коломну к нему со всех сторон верные люди собираться стали. Из Москвы толпами шли – помнили его да отцовскую милость. Шли да шли – и остался князь Юрий на Москве без бояр. Жутко ему пришлось, видит, что плохо дело… Посидел еще немного – да и прислал в Коломну гонцов: садись-де, племянник, на свое место! А сам в Галич ушел… Да и тут беды не кончились. Сыновья-то дяди, оба Дмитрия, отца не послушались, не примирились с ним, с Василием. Набрали они галичан да вятичей и разбили Васильеву рать. А третий их брат, Василий Косой, захватил в это время стол московский… Умер дядя, Юрий Дмитриевич. Он, Василий, в это время собирался из Нижнего, где проживал, в Орду ехать, заступы у хана просить. Не пришлось, однако… Оба Дмитрия поссорились с Косым, а с ним – с Василием – мир заключили. И опять он в Москве княжит… А Василий Косой убежал из Москвы в Новгород Великий. Набрал себе шайку вятичей, пограбил Бежецкий Верх, разорил Заволочье… Его, Васильево, войско настигло Косого в Ярославской волости, у Великого Села, на берегу речки Которости. Услышал Господь молитвы Василия: Косого разбили наголову, и он бежал в Кашин. Думал тогда Василий, усмирится брат… Да не тут-то было! Набрал Косой новую шайку и напал неожиданно на Вологду. Положил всю заставу великокняжескую, а в это время вятичи опять к нему собираться стали. Пришлось опять ему, Василию, выступить с войском против брата. Подошли к Костроме, глядь – Косой со своими полками на противном берегу Волги. Три дня стояли друг против друга. Никому не было расчета переходить Волгу первому. Постояли – и помирились… Он, Василий, дал о ту пору хороший удел Косому – Дмитров… Людный и богатый удел! И то ему мало стало бесстыжему! И так с месяц прошло, не боле – присылает вдруг Косой подметные грамоты… Сам, говорят, в Кострому ушел из Дмитрова… Опять пошли плохие вести. Взял Косой Галич, Устюг, захватил Гнеден[8], воеводу гнеденского, князя Оболенского, да десятильника владыки ростовского убил, бояр и людей многих перевешал, пограбил добра немало… Что было делать ему, Василию?
На ту пору как раз приехал в Москву Шемяка – звать его, великого князя, на свадьбу к себе. Подумал он, Василий, с боярами да и посадил Шемяку за приставов. Худого ему ничего не сделали – посадили, чтоб не сходился с братом только. А против Косого с войском выступили. Встретились близ Ростова, у села Скарятина. Немалая сила была тогда у Василия. Много помог в тот раз выходец литовский, князь Баба-Друцкой, со своим полком. Как встретились с Косым – видит он, что дело плохо, на хитрости пустился. Прислал к нему, к Василию, просить о перемирии до утра.
Он-то, великий князь, не понял сначала, согласился. К тому ж надо было после перехода отдых войскам дать, да и запасы вышли… Только что его, Васильевы, полки за запасами расходиться стали – вдруг сторожа бегут: Косой-де поднялся и наступает! Переполох поднялся не дай бог какой! Он, Василий, сам трубу схватил, трубить стал. Слава тебе господи, недалеко полки ушли, воротиться успели. С честью тогда злодея приняли! Друцкой со своим полком первым напал на Косого. В полчаса времени все решилось – полки злодея спину показали. Косого окружили, сбили с коня. Привели брата-злодея к нему, к великому князю… Что ему было делать с таким смутьяном? Ни ласка, ни угроза – ничего не брали…


