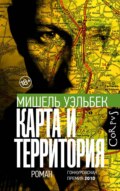Мишель Уэльбек
Элементарные частицы
10. Всему виной Каролина Есаян
В 1970-м, с начала учебного года, положение Брюно в интернате немного улучшилось; он перешел в восьмой и оказался почти старшеклассником. С восьмого по выпускной класс ученики спали в другом крыле, в дортуарах, разделенных на четырехместные блоки. Главные его мучители сочли, что он уже и так достаточно опущен и унижен, и постепенно переключились на новых жертв. В том же году Брюно стал проявлять интерес к девочкам. Время от времени, довольно редко, устраивались совместные прогулки обоих интернатов. В четверг после обеда, в хорошую погоду, они отправлялись на некое подобие пляжа на берегу Марны, в пригороде Мо. Там было кафе с настольным футболом и кучей флипперов, но славилось оно в основном питоном в аквариуме. Мальчики наперебой дразнили его, стуча пальцами по стеклу; вибрации сводили питона с ума, и он со всей дури бросался на стенки, пока наконец не отваливался в изнеможении. Как-то в октябре Брюно разговорился с Патрисией Ховилер; будучи сиротой, она уезжала из интерната только на каникулы, к дяде в Эльзас. Светловолосая, худенькая, она что-то тараторила со страшной скоростью, и ее оживленное лицо иногда застывало в странной улыбке. Неделю спустя он с ужасом увидел, что она, раздвинув ноги, сидит на коленях у Брассёра; он обнимал ее за талию и целовал в губы. Однако никаких выводов общего характера Брюно тогда не сделал. Если отморозки, которые терроризировали его в течение стольких лет, пользуются успехом у девочек, то исключительно потому, что они единственные, кто осмеливается к ним приставать. Он заметил, кстати, что Пеле, Вильмар и даже Брассёр прекращали задирать и унижать маленьких, если неподалеку оказывались девочки.
Начиная с восьмого класса ученикам разрешалось записаться в киноклуб. Просмотры устраивались в четверг вечером в актовом зале интерната для мальчиков; девочки туда тоже приходили. Однажды вечером, в декабре, перед началом фильма “Носферату, симфония ужаса”, Бруно занял место рядом с Каролиной Есаян. Целый час он только об одном и думал и ближе к финалу очень осторожно положил левую руку на ляжку своей соседки. В течение нескольких чудесных секунд (пяти? семи? уж никак не больше десяти) ничего не происходило. Она не шелохнулась. Неистовый жар охватил Брюно, еще немного, и он потерял бы сознание. Затем, не говоря ни слова, не выказав ни малейшей досады, она отстранила его руку. Много позже, но довольно часто, когда ему отсасывала какая-нибудь шлюха, Брюно вспоминал те несколько мгновений ужасающего блаженства; вспоминал он и тот момент, когда Каролина Есаян мягко отстранила его руку. В том маленьком мальчике было что-то очень чистое и нежное, что-то досексуальное, еще чуждое пока всякому эротическому соблазну. Ему просто хотелось прикоснуться к любящему телу, забыться в любящих объятиях. Нежность сильнее искушения, вот почему так трудно расстаться с надеждой.
Почему Брюно в тот вечер коснулся ляжки Каролины Есаян, а не ее руки (что она, скорее всего, позволила бы ему, и у них мог бы начаться прекрасный роман; ведь она нарочно заговорила с ним, пока они стояли в очереди, чтобы он успел сесть рядом с ней, и сама положила руку на подлокотник, разделяющий их кресла; вообще она давно заприметила Брюно, и он ей очень понравился, она же правда надеялась, что в тот вечер он возьмет ее за руку)? Наверное, потому, что ляжка Каролины Есаян оголилась, а он по простоте душевной не представлял, что она может оголиться невзначай. С возрастом, когда Брюно случалось с отвращением погружаться в свои детские переживания, сердцевина его судьбы обнажалась, и прошлое представало перед ним с ледяной и пугающей очевидностью. В тот декабрьский вечер 1970 года Каролине Есаян, несомненно, удалось бы исцелить его от унижений и горестей раннего детства; после этого первого прокола (ведь он так никогда и не осмелился, с тех пор как она мягко отстранила его руку, снова с ней заговорить) все стало гораздо сложнее. Однако в общечеловеческом плане Каролину Есаян вовсе не в чем винить. Напротив, Каролина Есаян, армянская девочка с кротким взглядом овечки и длинными вьющимися черными волосами, попавшая вследствие неразрешимых семейных дрязг в зловещие стены школы-интерната для девочек при лицее Мо, Каролина Есаян уже сама по себе внушала веру в человечество. А если все и ухнуло в душераздирающую пустоту, то только лишь из-за ничтожного и, в общем, нелепого пустяка. Тридцать лет спустя Брюно не сомневался, что, оценивая по достоинству то дурацкое происшествие, вывод можно сделать один: всему виной мини-юбка Каролины Есаян.
Положив руку на ляжку Каролины Есаян, Брюно фактически сделал ей предложение. Его первые годы отрочества выпали на переходный период. За исключением нескольких предтеч – прискорбным примером которых были, кстати, его родители, – предыдущее поколение установило на редкость тесную связь между браком, сексом и любовью. Постепенное распространение наемного труда и стремительный экономический рост пятидесятых неуклонно вели – не считая постоянно сокращающихся слоев общества, для которых понятие семейного достояния еще не утратило смысла, – к отмиранию брака по расчету. Католическая церковь, всегда достаточно сдержанно воспринимавшая внебрачный секс, с энтузиазмом приветствовала этот прогрессивный сдвиг в сторону брака по любви, который в большей степени соответствует ее теориям (“мужчину и женщину сотворил их”[13]) и мог бы стать первым шагом на пути к цивилизации верности, мира и любви, к чему, собственно, она стремится вполне естественным образом. Коммунистическая партия, единственная духовная сила, сопоставимая с католической церковью в те годы, боролась практически за то же самое. Поэтому молодежь пятидесятых с единодушным нетерпением жаждала влюбленности, тем более что в связи с оттоком населения из сельской местности и сопутствующим ему исчезновением деревенского уклада теперь для поиска своей второй половины не было никаких территориальных ограничений, и выбор этот приобретал огромное значение (в сентябре 1955-го в Сарселе было положено начало политике так называемых жилмассивов, являющих собой наглядное воплощение социального инстинкта, сведенного к семейной ячейке). Поэтому пятидесятые и начало шестидесятых годов с полным правом можно рассматривать как настоящий золотой век любовного чувства, образ которого еще и сегодня удается воссоздать по песням Жана Ферра и ранней Франсуаз Арди.
Однако в то же время в Западной Европе рос массовый спрос на возбуждающую чувственность продукцию североамериканского происхождения (песни Элвиса Пресли, фильмы с Мэрилин Монро). Наряду с холодильниками и стиральными машинами, материальным оплотом супружеского счастья, все популярнее становились транзистор и проигрыватель, выдвинувшие на первый план поведенческую модель подросткового флирта. Подспудный идеологический конфликт шестидесятых выплеснулся в начале следующего десятилетия в журналах “Мадемуазель Нежный Возраст” и “20 лет” в процессе обсуждения самого животрепещущего на тот момент вопроса: “Как далеко позволено зайти до брака?” В те же годы гедонистическо-либидинальная опция, пришедшая из США, получила мощную поддержку со стороны прессы либертарианского толка (первый номер “Актюэль” вышел в октябре 1970-го, “Шарли Эбдо” – в ноябре). Будучи, по идее, политическими противниками капитализма, они вместе с тем совпадали с индустрией развлечений в главном: а именно в стремлении разрушить иудео-христианские моральные ценности и в апологии молодости и личной свободы. Пытаясь всем угодить, журналы для девочек в срочном порядке придумали следующий нарратив. На первом этапе (скажем, с двенадцати до восемнадцати лет) девочка встречается со многими мальчиками (семантическая неоднозначность слова встречаться отражает реальную неоднозначность поведенческую: что, в сущности, значит встречаться с мальчиком? Целоваться взасос, предаваться более острым радостям петтинга и глубокого петтинга, заниматься настоящим сексом? Можно ли позволить мальчику потрогать меня за грудь? Надо ли снимать трусы? А что делать с его гениталиями?). Патрисии Ховилер и Каролине Есаян не позавидуешь; их любимые журналы давали расплывчатые, противоречивые ответы. На втором этапе (а конкретнее – вскоре после выпускных экзаменов), когда та же девушка испытывает потребность уже в серьезных отношениях (позже немецкие журналы обозначат его термином big love), актуальным становится такой вопрос: “Должна ли я съехаться с Жереми?”; то есть второй этап, в принципе, становится последним. Крайняя шаткость такой комбинации, предложенной журналами для девочек – фактически речь шла о том, чтобы применить, произвольно наложив их на два последовательных отрезка жизни, две прямо противоположные модели поведения, – сделалась очевидной лишь годы спустя, когда разводы стали повсеместным явлением. А до тех пор эта поразительная схема служила девушкам – и без того чересчур наивным и ошеломленным стремительностью происходящих вокруг перемен – твердой жизненной установкой, которой они благоразумно пытались следовать.
У Аннабель все складывалось совершенно иначе. Она думала о Мишеле по вечерам, перед тем как заснуть; она радовалась мыслям о нем, просыпаясь утром. Если в коллеже с ней приключалось что-то забавное или интересное, она предвкушала, как все ему расскажет. В те дни, когда по каким-то причинам им не удавалось повидаться, она не находила себе места и грустила. Во время летних каникул (у ее родителей был дом в Жиронде) она писала ему каждый день. Хотя Аннабель не признавалась себе в этом, хотя в ее письмах не было пылких слов (то же самое она могла бы написать своему брату-ровеснику), хотя чувство, заполнившее всю ее жизнь, напоминало скорее облако нежности, чем всепоглощающую страсть, тем не менее в ее сознании постепенно проступала очевидная истина: с первой же попытки, как-то невзначай и вообще не так уж этого желая, она обрела большую любовь. Первая любовь оказалась той самой, единственной, и второй не будет, чего уж тут. Везет же некоторым, замечала “Мадемуазель Нежный Возраст”; но не стоит обольщаться, это все же величайшая редкость; лишь в некоторых исключительных случаях, сродни чуду и, однако, неоспоримых и подтвержденных, такое может произойти. И выше счастья не выпадает человеку в этом мире.
11
Мишель с тех пор хранил фотографию, сделанную в саду родителей Аннабель во время пасхальных каникул 1971 года; ее отец спрятал шоколадные яйца в кустах и на цветочных клумбах. На снимке Аннабель стоит в гуще форзиций; увлеченная поисками, она с детской серьезностью раздвигает ветки. Черты ее лица уже тогда становились все утонченнее, и можно было догадаться, что она вырастет необыкновенной красавицей. Свитер слегка обтягивает ей грудь. Шоколадных яиц на Пасху ей больше не достанется; на следующий год они станут слишком взрослыми для подобных забав.
К тринадцати годам под влиянием прогестерона и эстрадиола, секретируемых яичниками, у девочек накапливаются жировые отложения в области груди и ягодиц. Если повезет, означенные части тела приобретут гармоничную полноту и округлость; эта картина пробуждает в мужчинах бешеное вожделение. Как и ее мать в том же возрасте, Аннабель могла похвастаться прекрасной фигурой. Но лицо ее матери было приятным и милым, не более того.
Никто не ожидал, что Аннабель вырастет такой невероятной красавицей, матери даже делалось за нее страшно. Огромные голубые глаза и фантастическую копну белокурых волос Аннабель наверняка унаследовала от отца и вообще от голландской ветви их семейства; но только неслыханной морфогенетической случайностью можно объяснить пронзительную чистоту ее черт. Обделенная красотой девушка несчастна, у нее нет шансов быть любимой. Пусть ее никто и не подкалывает, никто не язвит, но все смотрят словно сквозь нее и не оборачиваются ей вслед. В присутствии дурнушки окружающим становится неловко, и ее предпочитают просто не замечать. Феноменальная красота, выходящая далеко за рамки обычной девической обольстительной свежести, производит, напротив, какое-то сверхъестественное действие, и кажется, что неминуемо сулит трагическую судьбу. В пятнадцать лет Аннабель была одной из тех редких красавиц, на которых западают все мужчины подряд, независимо от возраста и общественного положения; таким девушкам стоит всего лишь пройтись по торговой улице небольшого городка, как у мужчин – молодых и не очень – учащается сердцебиение, а старики кряхтят от досады. Вскоре она обратила внимание, что при ее появлении, будь то в кафе или в учебной аудитории, воцаряется тишина, но ей потребовались годы, чтобы понять причину. В общеобразовательном коллеже Креси-ан-Бри все знали, что она “с Мишелем”; но и без того, по правде говоря, ни один мальчик не решился бы к ней подвалить. Это один из главных недостатков феноменальной красоты: только опытные, прожженные и бессовестные бабники чувствуют себя на высоте, поэтому сокровище девственности достается, как правило, самым отвратным типам – с этого начинается необратимая деградация девушек.
В сентябре 1972-го Мишель поступил в десятый класс лицея в Мо. Аннабель перешла в девятый; ей оставался еще один год в коллеже. Из лицея он возвращался на поезде, пересаживаясь в Эсбли в автовагон[14]. В Креси он обычно приезжал в 18.33; Аннабель ждала его на станции. Они вместе гуляли вдоль каналов. Иногда – довольно редко – заходили в кафе. Аннабель твердо знала, что рано или поздно Мишель захочет ее целовать и ласкать ее тело, она уже сама ощущала, как оно меняется. Она ждала этого момента, не испытывая ни особого нетерпения, ни страха, она ему доверяла.
Притом что фундаментальные аспекты полового поведения являются врожденными, история первых лет жизни играет важную роль в запускающих его механизмах, особенно у птиц и млекопитающих. Ранний тактильный контакт с представителями своего вида, по-видимому, жизненно важен у собак, кошек, крыс, морских свинок и макак-резусов (Macaco, mulatto). Отсутствие таких контактов с матерью в детстве приводит к серьезным нарушениям полового поведения у самцов крыс, в частности к подавлению брачного ритуала. Даже если бы от этого зависела его жизнь (а в значительной степени так оно и было), Мишель все равно не смог бы поцеловать Аннабель. Часто, увидев, как он выходит из вагона с портфелем в руках, она ощущала такой прилив счастья, что буквально бросалась ему на шею. Несколько секунд они стояли обнявшись, в состоянии блаженного паралича, и только потом уже заговаривали друг с другом.
Брюно тоже учился в лицее Мо, но в параллельном десятом классе; он знал, что у его матери есть сын от другого отца, не более того. С матерью он виделся редко. Дважды проводил каникулы на вилле в Кассисе, где она жила. У нее зависали многочисленные молодые люди, забредавшие в те края по пути куда-то дальше. Этих молодых людей в популярных журналах называли хиппи. Они чаще всего не работали и у Жанин, сменившей имя на Джейн, жили на всем готовом. То есть на доходы от клиники пластической хирургии ее бывшего мужа, а значит, и за счет желания некоторых обеспеченных дам побороть неминуемое увядание или исправить природные недостатки внешности. Хиппи купались голышом в каланках[15]. Брюно наотрез отказывался снимать плавки. Он чувствовал себя белесым, крохотным, противным, жирным. Мать то и дело укладывала какого-нибудь юнца к себе в постель. Ей исполнилось сорок пять, ее вульва похудела и слегка обвисла, но лицо не утратило былого великолепия. Брюно дрочил по три раза в день. Вульвы разных девушек находились иногда на расстоянии вытянутой руки, но при всей их доступности Брюно прекрасно понимал, что путь к ним ему заказан: другие парни выше и сильнее его, да и загар у них красивее. Много лет спустя Брюно осознает, что мелкобуржуазный мир, мир госслужащих и менеджеров среднего звена, более терпим, гостеприимен и открыт, чем мир молодых маргиналов, представленный в то время хиппи. “Если я правильно выряжусь, респектабельные чиновники меня примут, – любил повторять Брюно. – Мне только и потребуется, что купить костюм, галстук и рубашку – в C&A на распродажах эти шмотки мне обойдутся в каких-нибудь 800 франков; на самом деле мне просто надо научиться завязывать галстук. Отсутствие машины – это, конечно, проблема и, по сути, единственная трудность, подстерегающая менеджера среднего звена; но и с ней можно справиться, взять кредит, поработать несколько лет – и готово. А вот косить под маргинала не вижу смысла: я недостаточно молод, недостаточно красив, недостаточно крут. У меня редеют волосы, я склонен к полноте, с возрастом становлюсь все тревожнее и уязвимее, так что отторжение и презрение окружающих больнее задевают меня. Одним словом, мне не хватает естественности, то есть животного начала, – и это непоправимый дефект: что бы я ни говорил, что бы ни делал, что бы ни покупал, я никогда не смогу от него избавиться, потому что он таит в себе всю безнадежность врожденного изъяна”. В первые же каникулы, проведенные у матери, Брюно понял, что для хиппи он никогда не станет своим; он не был и никогда не будет роскошным животным. По ночам ему снились распахнутые вульвы. Примерно в то же время он начал читать Кафку. При первом чтении его словно холодом обдало, стужей замедленного действия, и в течение нескольких часов после того, как он закончил “Процесс”, его не покидало какое-то ватное оцепенение. Он сразу же понял, что этот заторможенный, скованный стыдом мир, где люди сталкиваются в космической пустоте и никакие отношения между ними вовек невозможны, в точности совпадает с его ментальным миром. Миром неспешным и холодным. В этом мире имелось, правда, и кое-что горячее – то, что у женщин между ног, но в это кое-что Брюно был не вхож.
Становилось все очевиднее, что Брюно плохо, что у него нет друзей, что он до ужаса боится девочек, что его юные годы – это одно сплошное фиаско. Его отец осознавал это с растущим чувством вины. На Рождество 1972 года он потребовал встречи с бывшей женой, чтобы обсудить ситуацию. В разговоре выяснилось, что единоутробный брат Брюно учится в том же лицее и тоже в десятом классе (правда, в параллельном), но мальчики даже не знакомы; эта новость потрясла его, он усмотрел в ней символ чудовищного распада семьи, в котором повинны они оба. Впервые проявив настойчивость, он велел Жанин связаться со вторым сыном и спасти то, что еще можно спасти.
Жанин не питала особых иллюзий по поводу отношения к ней бабушки Мишеля, но все оказалось еще хуже, чем она себе представляла. В тот момент, когда она припарковала свой “порше” у их домика в Креси-ан-Бри, старушка как раз вышла с хозяйственной сумкой в руках.
– Я не могу запретить вам видеться с ним, это ваш сын, – сухо сказала она. – Я иду за покупками, буду через два часа, и мне бы очень хотелось, чтобы к этому времени вас тут не было. – И отвернулась.
Мишель сидел в своей комнате; она толкнула дверь и вошла. Она решила поцеловать его и уже было подалась к нему, но он отпрыгнул от нее на метр, не меньше. С возрастом он стал поразительно похож на отца: те же светлые тонкие волосы, то же угловатое лицо с высокими скулами. Она привезла ему проигрыватель и несколько альбомов “Роллинг Стоунз”. Он молча принял подарок (проигрыватель оставил себе, пластинки уничтожил через несколько дней). В его скромно обставленной комнате на стенах не было никаких плакатов. На откинутой крышке секретера лежал раскрытый учебник математики. “Что это?” – спросила она. “Дифференциальные уравнения”, – неохотно ответил он. Она собиралась поговорить с ним о жизни, пригласить к себе на каникулы, но куда там. Она просто сообщила, что скоро он познакомится с братом, он кивнул. Они просидели так уже почти час, паузы затягивались, как вдруг снаружи раздался голос Аннабель. Мишель бросился к окну и крикнул ей, чтобы она вошла. Жанин взглянула на девушку, когда та открывала садовую калитку. “Какая хорошенькая у тебя подружка…” – заметила она, скривившись. Мишель отпрянул, словно от удара наотмашь, его лицо исказилось. Подойдя к своему “порше”, Жанин столкнулась с Аннабель и посмотрела ей прямо в глаза; в ее взгляде читалась ненависть.
Бабушка Мишеля не питала никакой неприязни к Брюно: он тоже жертва их общей матери, которой чуждо все человеческое, – таков был ее взгляд на вещи – поверхностный, но в целом верный. Так Брюно взял в привычку навещать Мишеля каждый четверг после обеда. Из Креси-ла-Шапель он ехал в автовагоне. Когда представлялся удобный случай (а он представлялся практически всегда), он пристраивался напротив какой-нибудь одинокой девушки. В большинстве своем девушки носили прозрачные блузки или что-то в этом роде и сидели нога на ногу. И не то чтобы даже напротив, скорее наискосок, а бывало, и на той же скамейке, на расстоянии метров двух от них, никак не дальше. Завидев длинные светлые или каштановые волосы, он мгновенно возбуждался; выискивая себе место, он шел между рядами и чувствовал, как все сильнее пульсирует боль в штанах. Он садился, вынув заранее носовой платок. Главное, успеть раскрыть папку и положить ее на колени; а там уж раз-раз – и готово. А если девушка вдруг раздвигала ноги в ту минуту, когда он доставал член, то необязательно даже было к нему прикасаться – Брюно кончал мгновенно, стоило ему увидеть ее трусы. Носовой платок служил больше для подстраховки: обычно он кончал прямо на листы в папке: на квадратные уравнения, схемы строения насекомых, на график добычи угля в СССР. Девушка спокойно читала журнал.
Годы спустя Брюно не узнавал себя в этом мальчике. Все эти вещи происходили на самом деле; они имели непосредственное отношение к пугливому толстому подростку с его детских фотографий. Этот подросток имел некоторое отношение к сексуально озабоченному взрослому мужчине, в которого он превратился. Его детство было болезненным, юность – ужасной; ему сорок два года, и, объективно говоря, до смерти жить и жить. Что ему предстоит еще испытать? Ну, допустим, сколько-то фелляций, и за них, понятное дело, он будет платить все охотнее. Жизнь, направленная на достижение цели, выкраивает мало места для воспоминаний. По мере того как его эрекции становились все затруднительнее и короче, Брюно впадал в какую-то тоскливую апатию. Главная цель его жизни – секс, и тут уже ничего изменишь, теперь он это понимал. В этом смысле Брюно был типичным представителем своего времени. В его юности жесткая экономическая конкуренция, которую переживало французское общество на протяжении двух столетий, несколько ослабла. В общественном мнении все больше утверждалась мысль, что экономические условия должны тяготеть к определенному равенству. Политики и руководители предприятий часто ссылались на модель шведской социал-демократии. В связи с чем Брюно не слишком стремился превзойти своих современников за счет экономических успехов. В профессиональном плане его единственной целью было – и вполне обоснованно – раствориться в “огромной аморфной массе среднего класса”, описанной позже президентом Жискаром д’Эстеном. Но человека хлебом не корми, дай установить какую-нибудь иерархию, главное же – почувствовать свое превосходство над себе подобными. Дания и Швеция, послужившие образцом для европейских демократий на пути к экономическому равенству, подали пример также и в области сексуальной свободы. Совершенно неожиданно внутри этого среднего класса, в который постепенно вливались рабочие и топ-менеджеры, а вернее, для детей этого среднего класса открылось новое поле нарциссического соперничества. В июле 1972 года, на летних языковых курсах в Траунштайне, небольшом баварском городке недалеко от австрийской границы, Патрик Кастелли, юный француз из его группы, умудрился за три недели переспать с тридцатью семью девицами. Брюно за отчетный период даже не размочил счет. В конце концов он показал член продавщице в супермаркете, которая, спасибо ей, расхохоталась и не стала подавать на него жалобу. Патрик Кастелли, как и Брюно, происходил из буржуазной семьи и хорошо учился; их судьбы обещали быть сопоставимыми в финансовом отношении. Практически все юношеские воспоминания Брюно были того же рода.
Впоследствии глобализация экономики повлекла за собой куда более жесткую конкуренцию, так рухнули мечты об интеграции всего населения в обобщенный средний класс с неуклонно растущей покупательной способностью; самые широкие социальные слои скатывались в бедность и безработицу. При этом ожесточенность сексуальной конкуренции не уменьшалась, скорее наоборот.
С тех пор как Брюно познакомился с Мишелем, прошло уже двадцать пять лет. За этот пугающий промежуток времени он, как ему казалось, почти не изменился; гипотеза тождества личности с неизменным ядром основных характеристик представлялась ему самоочевидной. И все же немалые пласты его собственной истории бесследно исчезли из памяти. У него создавалось ощущение, что он как бы и не прожил целые месяцы и годы. Чего не скажешь о последних двух годах юности, столь богатых воспоминаниями и определяющим жизненным опытом. Память человеческой жизни, объяснял ему много позже его брат, похожа на последовательные истории Гриффитса. Тем майским вечером они сидели в квартире Мишеля и пили кампари. Они редко заговаривали о прошлом, обычно их беседы касались текущей политической или социальной повестки, но в тот вечер они изменили этому правилу.
– У тебя сохранились воспоминания о некоторых моментах твоей жизни, – рассуждал Мишель, – и эти воспоминания принимают самые разнообразные формы: ты вспоминаешь мысли, мотивации и лица. Иногда всплывает только имя, вроде этой Патрисии Ховилер, о которой ты сейчас рассказывал, хотя сегодня ты бы ее даже не узнал. Иногда видишь чье-то лицо, но не умеешь привязать к нему воспоминание. В случае с Каролиной Есаян все, что ты о ней знаешь, укладывается в те несколько секунд, запечатленных в памяти с невообразимой точностью, когда твоя рука лежала на ее ляжке. Гриффитс ввел понятие последовательных историй в 1984 году, для того чтобы связать между собой квантовые измерения в правдоподобные повествования. История Гриффитса строится из последовательности более или менее произвольных измерений, выполненных в разные моменты времени. Каждое измерение выражает тот факт, что некоторая физическая величина, возможно отличающаяся от одного измерения к другому, находится в данный момент времени в определенном интервале значений. Например, в момент времени ti электрон имеет такую-то скорость, определяемую с некоторым приближением, зависящим от способа измерения; в момент времени t2 он находится в такой-то области пространства; в момент времени ty имеет такое-то значение спина. Исходя из подмножества результатов измерений, можно построить логически непротиворечивую историю, но нельзя сказать, что она истинна; ее просто допустимо отстаивать, не впадая в противоречие. Некоторые из жизненных историй, возможных в рамках данного эксперимента, могут быть записаны в нормализованной форме Гриффитса; тогда они называются последовательными историями Гриффитса, и все происходит так, будто мир состоит из отдельных объектов с внутренне присущими им неизменными свойствами. Однако число последовательных историй Гриффитса, которые можно записать исходя из серии измерений, обычно значительно больше единицы. Ты осознаешь свое “я”; это осознание позволяет тебе выдвинуть гипотезу: история, которую ты способен восстановить из собственных воспоминаний, является последовательной историей, оправданной в рамках принципа недвусмысленного повествования. Поскольку ты являешься отдельным индивидом, продолжающим свое существование в течение определенного отрезка времени и подчиняющимся некоей онтологии объектов и свойств, будь уверен – с тобой, безусловно, можно связать некоторую последовательную историю Гриффитса. Только эту априорную гипотезу ты принимаешь для сферы реальной жизни, но не для сферы сновидений.
– Мне хотелось бы думать, что мое “я” – это иллюзия, хотя и болезненная иллюзия… – тихо сказал Брюно; но Мишель не знал, что ответить, он совсем не разбирался в буддизме. Разговор давался им нелегко, они виделись от силы два раза в год. В молодости им случалось вести бурные дискуссии, но те времена давно миновали. В сентябре 1973-го они вместе перешли в одиннадцатый “C” с математическим уклоном; в течение двух лет вместе изучали математику и физику. Мишель был гораздо талантливее своих одноклассников. Мир людей, начинал он понимать, не оправдывает надежд, он полон тревоги и горечи. Математические уравнения приносили ему безмятежную, живую радость. Он продвигался на ощупь в полумраке и вдруг находил просвет: несколько формул, несколько дерзких факторизаций, и он достигал уровня счастливой безмятежности. Первое уравнение в доказательстве было самым волнующим, потому что истине, мерцающей на полпути, не хватало еще достоверности; последнее уравнение оказывалось самым ослепительным, самым радостным. В том же году Аннабель перешла в десятый класс лицея Мо. Они часто проводили время втроем после занятий. Потом Брюно возвращался в интернат, Аннабель и Мишель отправлялись на вокзал. Ситуация принимала странный и печальный оборот. В начале 1974 года Мишель ушел с головой в гильбертовы пространства; затем ознакомился с теорией меры, открыл для себя интегралы Римана, Лебега и Стилтьеса. Брюно меж тем читал Кафку и мастурбировал в автовагоне. Как-то в мае, зайдя днем в бассейн, недавно открывшийся в Ла-Шапель-сюр-Креси, он с превеликим удовольствием распахнул полотенце и показал член двум девочкам лет двенадцати; удовольствие возросло, когда девочки принялись пихать друг друга, проявив живой интерес к неожиданному зрелищу; он обменялся долгим взглядом с одной из них, брюнеточкой в очках. Брюно хоть и был слишком несчастен и фрустрирован, чтобы интересоваться чужой психологией, все же отдавал себе отчет, что его брат находится в еще более тяжелом положении, чем он сам. Они часто заходили вместе в кафе; Мишель носил анораки и дурацкие шапки и не умел играть в настольный футбол; говорил в основном Брюно. Мишель сидел не шелохнувшись, говорил все меньше и меньше; на Аннабель смотрел внимательно и безучастно. Аннабель не сдавалась; порой Мишель казался ей существом из другого мира. Незадолго до того она прочитала “Крейцерову сонату” и подумала было, что благодаря этой книге она его поняла. Двадцать пять лет спустя Брюно стало ясно, что они попали тогда в несуразную, ненормальную ситуацию, не имеющую будущего; обдумывая прошлое, постоянно испытываешь ощущение – возможно, ложное – некоей предопределенности.