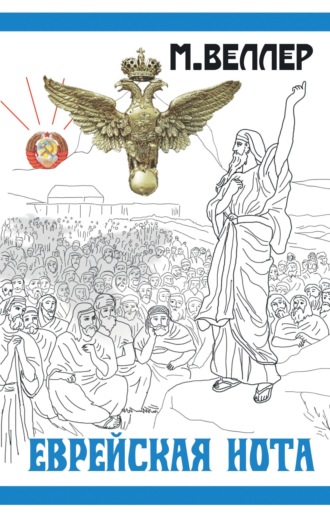
Михаил Веллер
Еврейская нота
На день рождения матери собрались выжившие родственники, а было их когда-то семь сестер-братьев у папиного отца и десять у матери, и почти половина выжила, да с женами-мужьями, все немолоды. За праздничным столом молодой офицер встал и произнес заученный тост. Женщины побагровели, мужчины загоготали и сползли под стол. Бабушка, отцова мать, закрыла глаза и провалилась сквозь землю. Это был набор отъявленных и неприличных ругательств, смесь солдатской грубости и сексуальных извращений, сулимых всем присутствующим.
Это был первый и последний опыт отца на идише.
Вот в такой сугубо советской семье я рос.
Горизонты карьеры
Таким образом, к четвертому курсу я лучше представлял себе то будущее, которого никогда не будет, чем то, которое возможно. Запрет вообще конкретнее разрешения.
Там, где ты ничего не можешь, ты ничего не должен хотеть, на грани издевки и стоицизма сказал Сенека. Мне чудовищно повезло: я не хотел того, чего не мог.
Я не хотел оставаться в аспирантуре. Не хотел писать кандидатскую и докторскую, вообще не хотел быть литературоведом, доктором, профессором. Лингвистом тем более не хотел. Жизнь облегчалась. Меня бы туда никто и не взял. В обозримом будущем.
Еще я не хотел работать за границей. Увидеть ее – о да! Но быть там переводчиком или преподавать иностранцам – мы уже видели на факультете стажеров из Франции и Штатов: редко тупые ребята.
Я хотел в жизни две вещи. Первая – написать книгу рассказов. Пусть даже одну за всю жизнь – но хорошую. И вторая – все остальное. Остальное – это видеть мир и работать самые разные работы. Пиратом уже нельзя. Но моряком рыбфлота, лесорубом, промысловым охотником – можно.
Еще меня интересовали девушки, и они тоже не спрашивали национальность. Кроме одной (которая все равно привела меня в постель).
Таким образом, у работяг национальность роли не играет – если только не за границу. А там, где она играет, мне ничего не нужно.
Вы чувствуете: я как-то пристроился со своей национальностью так, чтобы она мне не мешала. Я не пробивал головой стены не потому, что слаб или труслив, а потому что мне там ничего не надо было. Это примечательный психологический феномен.
Бородатая советская шутка
Объявление:
Меняю одну национальность на две судимости.
И ведь смеешься без всякого трагизма! И хрен поменяешь.
«Нева»
На пятом курсе вместо распределения учителем в сельскую школу открылась сияющая возможность: журналу «Нева» дали третью ставку в отдел прозы, младшего редактора. Это был толстый литературный журнал, престижный и уважаемый, с редакцией в начале Невского, почти угол Адмиралтейского проспекта. Эркер второго этажа выходил окнами на Дворцовую площадь, и оттуда можно было смотреть парады (правда, на это время милиция перекрывала все ближние подъезды и проверяла пропуска).
В прозе «Невы» прошлой весной я месяц читал рукописи и редактировал идущие в набор, отрабатывая журналистскую практику (вместо фольклорной). Отдел одобрил, и еще дважды по месяцу меня приглашали делать то же самое, когда редактор или завредакцией отъезжали на разного рода семинары и совещания в Дома творчества. Оплачивали меня из редакционного бюджета, то есть давая рукописи на платное рецензирование. И.о. младшего редактора на доб-ровольно-доверительных началах. В сущности, я был подготовленный и проверенный кандидат на знакомое место.
– Миша, – с добрым цинизмом улыбнулся старший редактор, мой шеф Саша Лурье, принимая от меня заполненную анкету, – вы ведь понимаете, что шансы близки к нулю. В отделе из двух человек один еврей у них уже есть – это я, и это больше, чем они хотели бы. Если взять еще вас, то тут возникнет 66,6 % процентов потенциальных сионистов, и никакой обком это не пропустит в страшном сне, хотя ему это не грозит, потому что не пропустит наш собственный отдел кадров, его за этим и держат.
Я не возлагал надежд на пустой номер, и когда вопрос о моем приеме растворился в пустоте, не переживал. Попытка не пытка, не правда ли, товарищ Берия.
Взяли на место Лешу Иванова, хорошего парня, начинающего писателя из спортсменов, бывшего гребца.
Антисионистский комитет
Советская идеология требовала борьбы. Америку перестали обвинять в империализме, ФРГ – в реваншизме, и даже Китай – в гегемонизме. Рейтинг Израиля в советском информационном пространстве резко вырос – он обвинялся в сионизме, худшем из всех пороков.
Быть евреем стало означать причастность к преступлениям против человечности.
Для мобилизации рядов и консолидации взглядов создали Советский Антисионистский Комитет. Его направленность была предельно проста: советские евреи – против сионизма и расистской военщины Израиля. Иногда Комитет заседал в телевизоре и клеймил убийц беззащитного арабского народа.
Представительствовали уважаемые лица еврейской национальности: израненный Дважды Герой танкист Драгунский, любимая народом Аксинья из «Тихого Дона» – Элина Быстрицкая и т. д.
От Белоруссии там никого не было. Отца решили пощупать на амплуа рядового советского еврея с идеальной биографией: офицер, коммунист, врач, кандидат наук, в семье никто не был репрессирован. На работу пришли двое приятных ребят в серых костюмах. Как живете, слышали ли о Комитете. Отец дистанцировался: офицер, коммунист, присяга и приказ, занят работой. Дали прочитать страничку и предложили подписать: статья для «Литературной Газеты». Спасибо, я не публичный человек. А для «Советской Белоруссии»? «Могилевская Правда»? Нет? А вы никогда не думали об отъезде в Израиль?
Отец поставил им на вид:
– Молодые люди, я офицер, вы обратились не по адресу.
– Ну вот, вы можете написать, почему никогда не собирались уезжать.
– Знаете, пусть пишут те, кто этим занимается.
Современный фашизм
Ленинград, лето, Невский, впереди меня гуляет юная субтильная пара, и мальчик авторитетно объясняет своей девочке:
– Потому что сионизм – это современный фашизм.
Говорю сзади:
– Молодой человек, фашизм – это однопартийная система, цензура, военные парады и никакого инакомыслия. А там – много партий, сто мнений по любому вопросу и никаких парадов. И езжай свободно в любую страну. А теперь думайте.
Они обернулись и смотрели растерянно. Мальчик подумал и сказал:
– С чего вы взяли.
Народ насчет евреев
В скотоперегоне на Алтае, уже спустились с высокогорья и в появившихся деревнях меняли бараньи туши на выпивку, нажрались мы в хороший вечер на удобной стоянке. Прошлой ночью я дежурил со скотом и рано ушел спать, ребята гуляли. Проснувшись от жажды, услышал разговор у костра: бригада обсуждала личности. «Нет, ну Миша, он, конечно, еврей. Но старается! Нет, нормально работает». Пить расхотелось. Больше я про себя ничего не услышал и заснул. Нет, ты понимаешь! Все нормально, слова никто плохого, ни сном ни духом, все свои, бригада друг другом держится – ан еврей. Ничего плохого. Но знают и помнят. И нет в том ни вины, ни беды – а вот просто знак. Ваня полицай, отсидев десятку ограничен на поселении по Горно-Алтайской области, Женька детдомовский чечен, сидел за драку, Володя Камирский с зоны: одиннадцать лет от звонка до звонка, Вовка Каюров в бегах из Владивостока от семерых с алиментами, Вовка Черников только пятерик оттянул – двинул инструменты ансамбля песни и пляски, – а Миша еврей. Придя осенью в Бийск, неделю квасили в общаге, ждали из бухгалтерии расчета – у народа в уважухе: ну же у вас бригада, змеи!
…И мне близилось тридцать пять, когда вышла первая книга, я жил один в Таллине, и штабель книжных пачек громоздился в углу ободранной обители. И свалились без звонка и письма Саша с Лидочкой, промысловики с Таймыра, год назад мы работали сезон вместе в охотбригаде. Матерые северяне гуляли свой полугодовой раз в три года отпуск со всеми оплаченными дорогами. Утром Лидочка, балдея от роскоши эстонской жизни, легко вызывала такси и таранила с рынка парную телятину и горы овощей. А супруг, Саша, стало быть, отправлялся со мной в магазин и неуклонно начинал день с двух бутылок «Вана Таллина». Фейерверк жизни гремел десять дней, после проводов я еще неделю плакал «Вана Таллином», сморкался, писал и потел «Вана Таллином», и до сих пор видеть его не могу.
Это к тому, что паспорт у меня валялся рядом с остатками гонорара прямо на дареном дряхлом письменном столе, и Лидочка взяла его посмотреть. Посмотрела и перевела взгляд на меня:
– Миша, так ты чо… еврей, что ли?
На Севере вопросов не было. По умолчанию я канал за эстонца – фамилия, Эстония, без вопросов, все тактично.
– Да, – сказал я.
Саша протянул руку, взял у Лидочки мой паспорт, тоже прочитал и ничего не сказал.
После паузы, из которой все искали как лучше выйти и вернуться к взаимной любви, Лидочка по-доброму посоветовала:
– Ты им не открывай, что ты еврей.
– Кому?
– Эстонцам.
– А что?
– Да они, знаешь, не очень советские все же люди. От них всякого можно ожидать…
И все продолжалось отлично. Но к вечеру ежедневно были пьяны, и случайно я услышал из второй своей комнатушки, где спали Саша с Лидочкой:
– Да ты чо, еврею разве можно верить.
Расставались мы в поцелуях, с пьяными слезами на глазах.
«Скороход»
Единственная в мире ежедневная газета обувщиков, четырехполосная, двенадцать тысяч тираж, шла на четырнадцать обувных фабрик Ленинграда, Архангельска, Петрозаводска, Невеля и еще не помню куда. «Мамка»-редактриса подбирала мальчиков «с головами, но без штанов», как выражаются наши друзья немцы. Она получала премии и призы, ее ставили в пример на совещаниях. А мы получали зарплаты, облегчали жизнь вступлением в Союз Журналистов, могли нам дать комнату в общежитии, а со временем и квартиру, нацелившиеся на карьеру получали возможность вступить в партию – со своих фиктивных рабочих ставок затяжчиков, вырубщиков и намазчиц: якобы рабочий класс.
Таким образом, половина редакции была, естественно, евреи. И даже однажды Вовка Бейдер, земляк мой, оказавшийся по рождению из Каменец-Подольска, пригласив пару человек в субботу в гости, поставил какие-то фрагменты сервиза, полагающегося на Песах, и сделал шутливый, а отчасти соответствующий жест:
– Евреи, – сказал он, – прошу за стол.
И все заржали, вложив в ржание массу чувств, где главными были – причастность и одновременно непричастность к этим словам и церемонии. Ирония и самоирония, ностальгия и гордость, тоска и вечная мимикрия, неуверенность во всем и самозащита, комплекс национальной неполноценности и начавший противостоять ему комплекс подвига трехтысячелетней истории – легкий смех советского еврея был непостижимо многозначен.
Таково было первое мое прикосновение к «еврейской жизни», если тот обед с тостом «Ле хаим!» можно считать еврейской жизнью. Точно помню, что на небогатом столе наличествовали масло и колбаса рядом. Слова «кашрут» никто из собравшихся советских журналистов не знал.
Все выше сказано как предисловие к появлению в редакции практиканта. На дворе стоял 1975 год, а юноша приехал на журфак из Сирии. Дружественный араб. И его направили к нам на практику. И в редакции спихнули мне. Мы сели за длинный редакционный стол и закурили, а из кухонного закутка ребята принесли кофе и присоединились.
На правах замредактора обстоятельный Вовка Бейдер приступил к процедуре введения практиканта в курс дела:
– Али, это будет руководитель твоей практики. Его зовут Михаил, можешь звать просто Миша. Фамилия – Веллер. Он лучший очеркист у нас в редакции, слушай внимательно все, что он скажет.
Араб был маленький, молоденький, хорошенький, смугленький и гладенький, с черными блестящими глазками, черными блестящими волосами и тонким горбатым носиком. Просто сладкий красавчик карманного формата для любительниц восточного типа.
– Веллер – это русская фамилия? – приятно улыбаясь, осведомился он.
– Не совсем, – сказал я тактично, как мог, и ощутил мстительность своей интонации.
И тут народ невольно загоготал. Ситуация обернулась изящно. Гоготал горбоносый лупоглазый Иоффе с козлиной бородкой. Гоготал Ачильдиев, укрупненная копия арабчонка, но из бухарских евреев. Гоготал сам Бейдер, внешностью тип молодого поселенца-головореза с черной бородой, орлиным носом и прицельным взглядом. Подвизгивал толстый Аркашка Спичка с круглыми чертами всех мест лица и тела. Мужественно гоготал Серега Саульский с лицом молодого гладиатора перед убийством врага. Самым русским выглядел я, но моя фамилия уже прозвучала, и смех был так же бессердечен.
Али сжался в комочек и сделался размером с кошку. Он затравленно озирался. Это не литературная фигура и не преувеличение: именно озирался по сторонам, и со всех сторон были мы, и вид он имел именно затравленный.
Это было идиотство, его было жалко, и это было смешно.
– Нет, это не русская фамилия, – сказал Бейдер, захлебываясь клекотом, и хохот прорвался опять.
Видимо, Бейдер, Иоффе и Ачильдиев были избыточно похожи на израильских убийц с арабских плакатов. Али пытался улыбаться, гримаса получалась растерянная, жалкая и льстивая, под тонким слоем каковых чувств ясно проступали изумление, страх, злоба и ненависть. У миловидного мальчика было очень выразительное лицо.
Мы сказали, что ждем его завтра к десяти – и больше никогда не видели.
…Это очень примечательная сцена. Мы не испытывали к нему ни малейших плохих чувств. Напротив – нам было неловко за свое невольное глумление при его полной беспомощности и безответности. Мы не были сионисты – мы плохо представляли, что это такое; но, видимо, учение о превосходстве евреев над всеми прочими; что, может, кому и приятно, но во‐первых нехорошо, а во‐вторых неправда.
Но. Присутствовавшие. Не агрессивные, не мачо, не супермены. Не националисты. Вдруг и неожиданно ощутили свое превосходство над кем-то другим. Дикая, невозможная ситуация: несколько евреев ощутили свое превосходство над одним маленьким арабом. Кретинское превосходство, по ситуации, и ситуация глупая, и гордиться нечем. И тем не менее. На одну минуту. По ничтожному поводу. В ничтожной форме. Несколько евреев открыто ощутили себя не униженными кем-то – но сами унизили кого-то. Хотя не собирались это делать и в виду не имели.
Чисто психологический экзерсис. Упражнение для подсознания. Ощутить себя – впервые и единственный раз! – не ниже кого угодно по причине своей национальности – а выше.
Удивительное чувство. Представителям большого народа этого не понять.
Автобус
Если тыкать иголочкой в больную точку, она станет привычно незаживающей.
Мелочи быта.
Ленинград. Автобус. Час пик. Толкотня у дверей. Поехали. С передней площадки – пьяный голос:
– Видишь, он еще как! И хоть бы человек! А то – еврей!
Народ молчит. Невидимый пьяный – настаивает и обвиняет:
– Да хоть бы человек! А то – еврей!
Молчание в автобусе застывает и сковывает, как гипс. Надо бы протолкаться и дать ему в рыло. Далеко, тесно. Хоть голос подать, обхамить, оскорбить, заткнуть. Но – тоже скован. Молчишь.
В автобусе общая неловкость. Но. В этой неловкости не чувствуется осуждения. Там, впереди, вокруг него люди, вплотную. И никто слова не скажет.
Тот не унимается:
– Да хоть бы человек! А то – еврей!
Едем.
Не добил
Попав на Конференцию молодых писателей Северо-Запада – был такой слив юных дарований в болото мимо кассы – я познакомился в семинаре с Юрой. На десять лет старше, обтерся в этих играх: давал советы и звал в гости. С бутылкой я приехал к нему во Всеволожск.
Собственный домик, печка, читаю с тоской его рассказы, заготавливаю в голове похвалы; жрать и выпить охота, когда за стол-то.
Приезжают родственники под шестьдесят: дядя с женой. Люди по манерам простые, что называется, и приветливые. Сели, выпили, едим борщ, еще налили.
С чего разговор зашел про евреев – ума не приложу. Никаких поводов. Я сижу за своего. Молчу. Юра тоже молчит, с выражением лица: «И вашим, и нашим». Решает для себя вопрос: черт меня знает, а я часом не еврей?.. Да нет, по всему совершенно же свой, а фамилия – так мало ли в Ленинграде Уклейнов, Ургантов и прочих фон Штернбергов со Штильмарками, седьмая вода на киселе немцев и шведов.
А дядя хлебает борщ и рассуждает к сведению общества:
– Да-а, Гитлера, конечно, уничтожить надо было, и всех их там под корень. Но с евреями он вот правильно поступил, что уничтожал. Жаль вот недоделал это дело, не всех уничтожил…
Сижу я идиот идиотом. Юра тут, сука, хлебосольный хозяин. И проступает у него на роже трепетная любовь ко мне. Любовь эта состоит из сомнения в моей национальной принадлежности и трепета, что сейчас я устрою им семейный погром с политическими обвинениями.
Дядя смотрел на меня крайне доброжелательно и предлагал присоединиться к разговору.
Мысленно я репетировал, как встаю, плюю ему в тарелку с борщом, говорю сильные слова, на стол кидаю последний рубль за угощение и ухожу презирающий и оскорбленный. Но тетя была так добродушна, дядя так искренне расположен ко мне, а Юра с умоляющим лицом так извивался, словно сел на спицу, что я тупо ел борщ, старательно попадая ложкой в рот.
Прощался я от дверей. Юра проводил меня до электрички, как родного.
Радость первой публикации
Я был готов к тому, что меня не будут печатать сразу. Потому что мои рассказы не были похожи на то, что печаталось в журналах. У меня хватит стойкости и веры в себя, чтобы рассылать их хоть год. Я был готов получать поначалу отказы из редакций: два, пять, пятнадцать! А хоть сорок. «Мартин Иден» был настольной книгой молодых советских писателей.
Через два года, после сотого отказа из всех толстых журналов, старик Ромуальдыч заколдобился. Я озверел. На смену озверению пришел цинизм. Так рождаются профессионалы. Шакалы пишущих машинок, гиены издательских планов. Перебрав одну из папок с сюжетами – условно юмористическую – я настругал десяток хохм: написал за месяц десять юморесок, исключительно с расчетом на публикацию. Стандартного ходового объема: по две с половиной машинописные страницы. Три дня на штуку: один на писание, два – на отделку. Для меня – халтурная молниеносность. Никакого высокого искусства и художественных открытий. Диверсанты низкого жанра, расходный материал наступления.
Я распечатал их по пять экземпляров и отправил во все места. Вплоть до многотиражных газет.
Мне необходимо было уйти из-под гибельного литературного статуса «Его знают, он пишет, но не печатается». Каждый день работал против меня, утверждая в положении обреченного маргинала: таких редакторы не воспринимают всерьез.
И хохмы выстрелили! Все! Я мог теперь с достоинством писать в сопроводительных справках: «Печатается в газетах».
И первой газетой была ленинградская областная молодежка «Смена», где отделом юмора заведовал к тому времени мой однокашник Аркашка Спичка, мы дружили с факультета.
Он напечатал мою хохму в ближайшем воскресном номере. А подпись под ней стояла такая: «В. Михайлов».
Я испытал истинно амбивалентное чувство. Напечатали. М. Веллер, получите: это – вам.
Блять! Совсем не то обещал мне ярл, когда звал в викинг.
– Аркашка, – спросил я, в понедельник явившись в редакцию, – на хера ты это сделал? Ты чего? Ты зачем? Это что?
Аркашка покраснел, засуетился за столом и стал крутить телефон.
– Я сейчас узнаю, – повторял он. – Это не я. Это дежурный редактор. Кто там был? Или зам ответсекра. В типографии, скорее всего, перепутали.
Все было понятно. На полосе и так стояла пара еврейских фамилий. И редактор полосы еврей. Перебор. Он заменил простейшим способом. С чужим надо еще договариваться, чтоб не возник. А с другом проще: свой.
Любой писатель знает это чувство: первая публикация! Ну так у меня оно тоже было осложнено еврейским вопросом.
Псевдоним
Семинар молодых фантастов Бориса Стругацкого я посещал три сезона, и как обозначение некоторой избранности был несколько раз приглашаем в гости. На маленькой кухне двухкомнатной хрущевки Стругацкий варил кофе в медной джезве, с парой зернышек перца, сахаром и кардамоном, мы курили, и он задавал направление разговора. Он был, как раньше сказали бы, дьявольски умен, все суждения развивались от провокационных поощрительных посылов, выводы многослойны и без ощутимого дна.
– Миша, – сказал Стругацкий, – вы пришли в семинар с готовыми вещами, конечно выше среднего уровня публикаций. Но за те два года, что мы знакомы, сдвигов в публикации ваших рассказов, к сожалению, нет. Проломить эту стену сейчас молодому писателю, конечно, очень трудно. На то, как мы знаем, много причин. И здесь писателю иногда следует быть прагматиком и даже циником. Просто такова литературная кухня. Или, если хотите, помойка. Вы не думали о том, чтобы взять псевдоним?
Воздух в кухне хлопнул, как выбиваемый коврик. Я не думал об этом ни одной секунды. Никогда. Этого варианта не существовало. Только последняя мразь отказывается от фамилии отца.
И это Борис Натанович Стругацкий. С его носом, с его темными мудрыми глазками – ехидными, сочувствующими, насмешливыми и печальными, с каким-то смиренно-высокомерным выражением они смотрели на все. И это он – он! Натанович! – предлагает мне брать псевдоним. Господи, ведь из добра предлагает!.. Прекрасно зная, с каким почтением и любовью я к нему отношусь.
Ёбаная жизнь.
– Я ни в коем случае вам ничего не предлагаю, – успокоительно, мирно сказал Стругацкий, естественно поняв, что там у меня в голове. Да поди на роже все отразилось. – Это совершенно обычная в литературе вещь, как вы знаете. У нас в писательской организации таких едва ли не четверть, наверное. Обычный способ иногда чуть уменьшить некоторые несправедливости нашей жизни. Просто вы подумайте, Миша.
Смерть под псевдонимом
Есть много анекдотов на ту тему, что настоящая фамилия Ломоносова была Ораниенбаум. Революция сделала из Бронштейнов, Цедербаумов и Розенфельдов Троцкого, Мартова и Каменева – так до Иегуды-Ягоды и далее к послевоенным космополитам. Светлов – Шейнкман, Утесов – Вайсбейн, Каверин – Зильбер, Ильф – Файнзильберг. Список длиннее Волги.
Если в первые пятнадцать лет советской власти граждане меняли еврейские фамилии на русские из искренней ассимиляции в великой социалистической стране полного равенства и атеизма, «быть как все», – то после сталинской борьбы с космополитами, сионистами и врачами-вредителями евреи категорически не стремились размахивать своей национальностью. Не надо выделяться. Ничем. Ивановым быть лучше, чем Рабиновичем.
В одном гарнизоне в Забайкалье жил в соседнем ДОСе Саша Петровский, так фамилия его папы была Перельман. У Василия Аксенова отец и был Аксенов, а мать Гинзбург, все правильно. Э, это все описано-переописано.
Интереснее. Обнаружилось в 1970–80-е годы. Люди, пережившие послевоенные черносотенные кампании и зная о препонах продвижению евреев повсеместно, своим детям при дальнейшей советской власти устраивали в пятой графе национальность «русский» любыми ухищрениями. Или «украинец», «белорус» – не важно; годилось и «армянин», «грузин», «узбек». Только не еврей.
И следовала такая комбинация. Папа – еврей. А мама – полукровка. Причем с еврейской фамилией по своему отцу. Если мама была записана русской – она просто меняет фамилию с еврейской отцовской на русскую материнскую. Если же в паспорте значилась еврейкой – то меняет на материнские и национальность, и фамилию. После чего ребенок записывается на русскую фамилию с русской национальностью по маме – а на самом по одной из бабушек: на три четверти он еврей. Официально может значиться украинцем, армянином и т. д.
Некоторые из таких «скрытых евреев» – чистые мараны: по воззрениям, симпатиям, кругу общения и прочее. Другие – ассимилянты. Третьи же стараются всячески дистанцироваться от всего еврейского, испытывая болезненные уколы самолюбия, если сталкиваются с антисемитизмом в свой адрес.
Национальная страсть
С годами у советских евреев вырабатывалась страсть, в сущности свойственная любому народу: среди героев и знаменитостей выискивать своих. Но у евреев она подогревалась государственным сокрытием «лиц еврейской национальности» во всех сферах: от науки и искусства до политики и истории. Официально легитимных евреев было пять-шесть от силы: Левитан-художник и Левитан-диктор, композитор Рубинштейн, один из главных в ленинском правительстве Свердлов, писатель Эренбург, ну и уже рейтингом ниже физик Ландау и политическая проститутка Троцкий.
Был еще ряд канонизированный, святцы гениев такого масштаба, что лишались национальных признаков: Маркс, Фрейд, Эйнштейн.
А далее акцентировали внимание на знаменитостях, чья национальность целенаправленно обходилась властью: Дважды Герой генерал Драгунский, Маршак, Элина Быстрицкая, Валентин Гафт, Татьяна Лиознова, Валентин Зорин, Агния Барто.
Знание настоящих фамилий, скрытых под громкими псевдонимами, воспринималось как признак вольномыслия и компетентности: Саша Черный – Гликберг, Александр Володин – Лифшиц, Давид Самойлов – Кауфман, Григорий Бакланов – Фридман.
Отыскивали еврейское происхождение под фамилиями настоящими и совершенно нетипичными: герой Малой Земли майор Цезарь Куников, Герой Советского Союза подводник Владимир Коновалов, авиаконструктор Лавочкин, физик академик Халатников.
И на волне национальной гордости приписывали еврейство людям в нем неповинным – по сходству лица или фамилии: кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну, немцу, или Чарли Чаплину, англичанину.
Еврейская взаимопомощь: свои и чужие
Есть такая легенда, что еврей, пробравшись на какое-либо престижное и выгодное место, тянет туда же «своих», то есть тоже евреев. Такая взаимопомощь и взаимовыручка. Поэтому везде наверху такой непропорционально большой процент евреев.
Этот лестный для еврейской солидарности трафарет не имел ничего общего с советской реальностью. Напротив. После того, как в предвоенные, а затем и в послевоенные годы от евреев постарались очистить не только все руководящие органы, но и НКВД-МГБ, включая разведку, которую в основном евреи и создали. После закрытой инструкции Щербакова, начальника ГлавПолитУправления Красной Армии, в 1943: награждения и повышения военнослужащих-евреев притормаживать. После закрытых же нововведений 1968 г. – «Три “Не”». Образовался сам собой негласный, нигде никак не оформленный, конкретно не прописанный, лимит на количество евреев в любой организации.
Если где-то есть один – ладно: это еще и пример интернационализма как опровержение вражеской клеветы. Если на большой коллектив несколько, чтоб в глаза не бросалось – куда ж денешься. Но если группа инородцев уже заметна, если больше нескольких процентов – это категорически не одобрялось, ни отделом кадров, каковой был филиалом КГБ, ни начальством, ни высшим руководством. Что это у вас там за сионистское гнездо, товарищи? Надо бы обратить внимание, оздоровить кадровый состав. То есть выкинуть хоть часть жидов вон.
Среди евреев начал действовать закон трамвая: я уже зашел, закройте быстро двери, чтоб следом толпа не давила. Пока я в конторе один – ладно: и работать можно, и поощрить могут, и повышение не исключено. Но! Придут еще, и начальство кого-то придержит, или вообще уволит – могу лично я залететь. Нет-нет, тут и меня хватит, больше евреев не нужно.
То есть. Именно евреи старались не принимать на работу евреев, не приводить, не рекомендовать. (Оборонная наука и промышленность бывала исключением – здесь требовали мозги и результат, плюя на все прочее.) Чтоб не дай бог не заподозрили в кумовстве, еврейском национализме и сионистских симпатиях.
Это касалось и меня лично. Старший редактор прозы «Невы» Лурье никогда меня так и не напечатал, даже когда рассказы через его голову были переданы главному редактору Борису Никольскому и назначены к печати. Лурье и тогда возразил, что впереди в очереди тридцать девять рассказов, и надо подождать года два. В номер меня поставил Коля Коняев, когда Лурье отсутствовал в «творческом отпуске».
Аналогично в «Звезде» у меня никогда не принимал рукописи к публикации завпрозой еврей Смолян – и напечатал сменивший его русский Миша Панин.
На излете семидесятых, в итоге Конференции молодых писателей Северо-Запада мне, «отмеченному и поощренному» руководством и ажно ленинградской прессой, ведшие наш семинар Брандис, Стругацкий и Браун не выписали даже вшивой «рекомендации для публикации в печати»; а на всякий случай, некорректно: три еврея рекомендуют четвертого.
Самые грязные и подлые критики, с которыми мне случилось соприкоснуться, все трое были евреями.
Это прекрасно лечит от слюнявого сентиментального идеализма о «национальной солидарности униженных и оскорбленных». Сначала недоумеваешь, потом задыхаешься от негодования, и след остается – горькое презрение. Рабство рождает рабов. Подлость рождает подлецов.
И как вставать в такие ряды? Сука, ни сесть ни лечь. Упал – отжался.
Внутривидовая борьба
Я выделю эту нехитрую мысль. А то не всем понятно. А она важна.
Когда евреев в какой-то приличной, престижной и денежной области деятельности становилось заметно много. И их проникновение туда ограничивали, а пребывание сокращали. То конкурс на место делался двухступенчатым.
Во-первых, еврей должен был так или иначе предъявить свои преимущества перед не еврейским кандидатом на это место. Как более высокий уровень способностей и профессионализма – так и, если он сумеет и это поможет, задействовать связи, покровительство и разного рода услуги.
Но во‐вторых! – еврей должен победить, нейтрализовать, вытолкнуть, ликвидировать, не подпустить, скомпрометировать, любым способом обойти – другого или других евреев, претендующих на то же место. Другие евреи тут – лишние, опасные, мешают, из-за них превышается негласно допустимая национальная квота. И конкуренция между своими гораздо более жестока и подла.
На своих рассчитывать не приходилось. Своих надо опасаться больше чужих.
Сделавший большую карьеру в Советском Союзе еврей – это крысиный король среди соплеменников. К евреям он особенно нетерпим. Он оберегает чистоту своей площадки.
Но там, где требовались реальные таланты – наука, искусство, оборонка, – пробившиеся через двойной фильтр еврейские головы были материалом отборным.
Фашистская Эстония
Единственным, кто мне помог – и очень сильно, поддержал, покровительствовал, поселил на первых порах в своей квартире и ходил ходатайствовать за меня в издательство и Союз писателей – был эстонец Тээт Каллас. По его приглашению, объяснению и рекомендации я переехал из Ленинграда в Таллин. Тээт переводил меня на эстонский, упоминал в статьях и рекламировал коллегам. Я был ему никто. Однажды он прочел мои рассказы.
Таллинский Дом Печати в то время был местом интересным. В трех русских газетах трудились: Цион, Малкиэль, Рогинский, Скульская, Аграновская, Левин, Альперович… много. Приехали все из трех мест: Киев, Ташкент, Ленинград. Там их не приветствовали и для евреев мест в журналистике не обнаруживалось.







