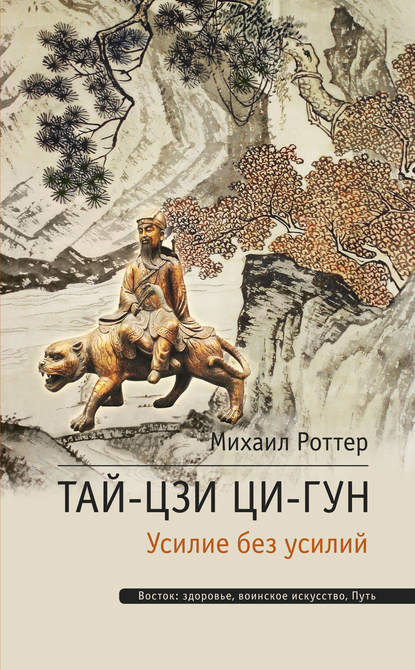Полная версия:
Михаил Роттер Драгоценности Восьми кусков парчи
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Михаил Роттер
Драгоценности Восьми кусков парчи
© Михаил Роттер, текст 2015
© ООО ИД «Ганга», 2016, 2017
* * *
Предисловие
«Такие качества, как самоконтроль, правильное поведение, любовь, сострадание, терпение и умственное равновесие, делают жизнь интенсивной и полной значимости. Жизнь без этих основополагающих качеств подобна пустыне, где непрерывно бушуют вихри напряженности и волнения».
«Зеркало блаженства. Жизнь и наставления Бабы Бхуман Шаха и Шри Чандры Свами Удасина»[1]По большому счету название этой книги не полностью отвечает ее содержанию. Так получилось, потому что полное название было бы слишком длинным, что-то вроде «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим».
Такой способ написания, несомненно, очень удобен и честен, потому что позволяет читателю, еще не открыв книгу (а может, ее и вовсе открывать не нужно), знать, что ему «подсовывает» автор. Но времена сейчас другие и ни у кого не хватит терпения прочитать такое длинное название до конца, поэтому пришлось его урезать до «читабельного» состояния. А «подлинное» название звучало бы примерно так: «История о человеке, идущем по Пути своим собственным путем, происходящая на фоне изучения им прекрасного и широко известного оздоровительного (как выясняется в процессе чтения, не только оздоровительного) Ци-Гун Восьми кусков парчи».
Эта работа ни в коей мере не является методическим пособием по изучению комплекса Восемь кусков парчи. В этом не было необходимости, ибо этот Ци-Гун весьма подробно описан в книге Михаила Роттера «Ци-Гун Кентавра, или Толкающие руки, обернутые в восемь кусков парчи», выпущенной ранее издательским домом «Ганга». Скорее, «Драгоценности Восьми кусков парчи» – это сказка, которая может рассматриваться, с одной стороны, как «сказочное» послесловие к «Ци-Гун Кентавра», а с другой – как предисловие к «Взрослым сказкам о Гун-Фу», также выпущенным в свет издательством «Ганга».
Как бы читатель ни рассматривал эту работу, – как отдельную книгу, предисловие или послесловие к другим книгам, – автор надеется, что ее прочтение в любом случае принесет читателю удовольствие, а если очень повезет, то и пользу по принципу: «Сказка ложь, да в ней намек…»
Учитывая, что это на самом деле чистой воды сказка (хотя и не без намека), представляется уместным напомнить, что в любой сказке все действующие лица сказочные, так что все персонажи здесь вымышленные и никакого отношения к действительности не имеют.
«Смирение, спокойная, любезная речь, честность, терпимость, доброжелательность ко всем существам, а также самодисциплина делают человеческую жизнь достойной уважения. Если вы сможете стяжать эти добродетели, ваша жизнь также расцветет и наполнится ароматом».
«Зеркало блаженства»Первый кусок парчи
В путь
«Непривязанность, или отрешенность, сама по себе обладает особым характерным блаженством».
«Зеркало блаженства»
Много учеников у меня не было никогда, ибо я учил честно и всерьез. А настоящее обучение – это всегда долго и очень маленькими группами, чаще по одному-два человека. Что делать, иначе не получается. Но однажды, когда я задумался и начал вспоминать их (а каждого я помнил, как собственного сына), то оказалось, что за мою долгую жизнь я обучил не так уж и мало настоящих мастеров.
Лучше всего я помнил своего последнего ученика Миня. И не потому что он был последним (наоборот, в старости люди обычно лучше помнят то, что было давно), а потому что он был одновременно и самый способным, и самым «трудным», уж очень он был дик, свиреп и непокорен.
Прекрасно помню тот день, когда его дед, уважаемый лекарь, господин Тхиеу (он так и не соизволил поменять свое китайское имя на вьетнамское) привел этого мальчишку Миня ко мне. Такому человеку, как я, достаточно одного взгляда, чтобы понять, кто стоит передо мной. А тут и понимать было нечего, любая базарная торговка, перед которой каждый день проходит множество людей, поставила бы парнишке точный диагноз: несомненный бандит. Лет ему было тринадцать, и, судя по его взгляду, он ничего не боялся и никого не уважал. Ну, может, только своего деда, к которому относился с явным почтением. На меня он смотрел настороженно, но без всякого страха, хотя господин Тхиеу наверняка рассказывал ему про меня. Я сразу заметил, что он буквально «набит» энергией, отменно сложен и чрезвычайно крепок для своих лет. Мне он напомнил гибкий сыромятный ремень, который не всякий цирковой силач сумеет разорвать. И еще: этот паршивец смотрел на меня, старого Вана, в упор, не опуская глаз. А такое позволяли себе далеко не все взрослые мастера. Сказать по правде, я уж и не помнил, когда такое было в прошлый раз.
В общем, тот еще фрукт. Если бы мальчишку привел не господин Тхиеу, а кто-то другой, я бы даже и разговаривать не стал, очень неважный подарочек для учителя. Но старый лекарь был абсолютно честен со мной: он рассказал, что учит мальчишку с малых лет, что у него редкие способности к воинским искусствам и блестящая память, дающая ему возможность за один раз запоминать десяток акупунктурных точек вместе с показаниями к применению. Это позволяло бы надеяться на то, что из него в будущем может получиться не только великий воин, но и прекрасный лекарь, если бы не его тяжелый и очень агрессивный характер. Уже сейчас Минь никому не подчиняется, кроме своего отца и своего деда, господина Тхиеу. Поэтому единственный, кому он, господин Тхиеу, может доверить дальнейшее обучение этого маленького упрямца – это уважаемый мастер Ван, то есть я.
Тут было над чем подумать. С одной стороны, ученик, каких мало, лично выдрессированный господином Тхиеу, который и сам был известным мастером, вполне способным управиться и без меня. С другой – такой характерец… Намучаешься. Но хотя тяжкий нрав был написан большими буквами у мальчишки на лице, мне очень не хотелось отправлять его прочь. Причина была весьма веской: в молодости я сам был точно таким же. Поэтому я решил поступить, как обычно поступал в тех случаях, когда не знал, что делать, – составить гороскоп. И тут неожиданно оказалось, что для мальчишки я – идеальный учитель. Полное совпадение по всем параметрам. Такое бывает очень редко. Так что судьба явно говорила «да».
Но не в мальчишке дело, хотя я частенько его вспоминаю, потому что за те пять лет, что он проучился у меня, я успел полюбить его. Просто, вспоминая, как принимал его в ученики, я тут же вспомнил и то, как в ученики отдавали меня самого. Хотя «отдавали» это не совсем верное слово. Точнее я бы сказал, «временно сдавали в аренду». Дело в том, что в нашей семье детей никогда не отдавали учиться «на сторону». Вообще-то это общепринятое правило мира воинских искусств: когда ребенок вырастает, его отдают в обучение чужому человеку (именно так и поступил господин Тхиеу со своим внуком Минем). И это верно, чужой учитель более отстраненно смотрит на ученика и у него не дрогнет рука, когда придет время браться за него всерьез. Но у нас так не получалось, потому что наша школа «Счастливый путь» всегда была полностью закрыта для «не-родственников», поэтому «чужих» мастеров этого стиля в принципе не существовало. Кстати, Минь – первый не из нашей семьи, которого я обучил по-настоящему. Получается, что он первый «чужой» мастер «Счастливого пути».
Так что учил меня только мой собственный прадед, который даже деда и отца не подпускал к этому процессу, ибо по каким-то своим критериям считал, что именно я в свое время стану, как он говорил, патриархом школы и потому должен получить самое лучшее обучение. А кто еще может его мне обеспечить, кроме него самого. У нас в семье вообще были смешные отношения. Прадед с высоты своего возраста считал отца сопляком, причем не слишком скрывал это. Деда (своего сына) он тоже считал сопляком, но никому этого не показывал. Однажды случайно мне удалось услышать, что он отчитывает деда, как мальчишку. Заметив меня, прадед поднес палец к губам и произнес: «Никому! Ты этого не слышал».
Иногда мне даже казалось, что меньше всех он ругает меня. Так что по суровым азиатским меркам обучение мое можно было вполне считать «малиной». А что, учит родной прадедушка, никогда не гневается, почти не ругает, практически не бьет. Мало того, отвечает на все вопросы, какими бы дурацкими они ни были. Однажды отец, глядя на это безобразие, завелся настолько, что даже решился сказать об этом прадеду. Тот ответил ему так: «Твой сын кроме несомненного таланта к воинским искусствам наделен еще очень тяжелым характером. Тут ничего не поделать, так часто бывает. Если гладить его «по шерсти», то он выучится без всяких строгостей и даже без побоев. Если «против», то он просто все бросит и ты никогда не сумеешь его заставить заниматься. А я, – тут он погладил меня по голове, – договариваюсь. Понимаешь, из всех, кого я учил, нужно было делать воина, а этот таким уже родился. И делать из него ничего не нужно, главное, не сломать. Вы никто этого не понимаете, но по духу он уже мастер!» – и он снова погладил меня по голове.
Вообще мое положение в семье было странным. Я родился в один день с прадедом, только на шестьдесят шесть лет позже. Не знаю почему, может, именно из-за этого, а может, из-за чего-то еще, прадед всегда выделял меня среди всех членов нашей очень немалой семьи. Он никогда не обращался со мной как с ребенком и (несмотря на свой крутой и крайне авторитарный характер) никогда не приказывал мне. Только «договаривался», как всегда выражался он сам. При этом «договаривался» он исключительно со мной, а для всех остальных родственников действовало одно, самое главное правило: «как прадед сказал, так и будет».
Мало того, начиная с момента, когда я научился более или менее ясно выражать свои мысли, он сделал то, что в традиционной семье, подобной нашей, считалось просто невозможным: он начал приводить меня на семейный совет. Но и это еще не все. Прадед стал интересоваться моим мнением по всем обсуждаемым вопросам, причем высказываться я должен был первым, чтобы, как он говорил, «мнение старших не влияло на мое собственное понимание».
Повзрослев, я спросил, почему он так делал. И вот что он мне тогда ответил:
– Тебе всегда было со мной легко. Ты принимал это как должное, но никогда не задумывался об этом. А причина тут простая. Я прекрасно чувствую людей, но тебя мне даже не надо было чувствовать. Ты точно такой же, как я, поэтому я заранее знаю, что ты подумаешь еще до того, как это придет в голову тебе самому. Так что мне очень просто с тобой, а тебе – со мной. Разумеется, между родственниками подобное бывает, но не слишком часто. Такое у меня было с моим отцом, а вот со своими сыном и внуком (твоими дедом и отцом) – нет. Так вот, мой отец, мужчина исключительно сурового нрава, был мягок только со мной, потому что знал, что давить на меня так же бесполезно, как на него самого. Поэтому скажи спасибо ему, это он дал мне урок, как вести себя с людьми, обладающими нашим семейным нравом. Конечно, учить воинскому искусству нужно сурово. Но только не тебя. У тебя это в крови, так что тебя мне нужно было лишь не испортить. Если бы я перестарался, ты либо отказался бы вообще заниматься, мог даже уйти из дома, либо твоя врожденная свирепость перешла бы в жестокость, а это для воина совершенно недопустимо.
* * *Все это я к тому, что учение мое было достаточно спокойным. Оно проходило буднично, я бы сказал, по-домашнему. Времена были «неторопливые», никто меня в шею не гнал, позанимался своих часов восемь в день – и достаточно. Не то что потом, когда мне приходилось заниматься с учениками (с тем же Минем) даже по ночам, чтобы успеть передать им Искусство.
Теперь, на склоне лет, я понимаю, что если и существует рай на земле, то это он и был. Дом, семья которая тебя любит, свежеприготовленная горячая пища… И никаких забот. Позанимался с родным прадедушкой и гуляй, делай что хочешь.
* * *С детства зная о нашем семейном правиле «никаких чужих учителей», я и подумать не мог, что у меня может быть чужой учитель. Тем не менее однажды появился человек, которому меня отдали во временное обучение. Теперь, став старым, я с улыбкой называю это «сдачей в аренду». А дело было так.
В один прекрасный день к нам в ворота постучали и кто-то очень вежливо спросил, здесь ли живет семья Ван. Когда незнакомца впустили, выяснилось, что это был странствующий буддийский монах, очень приятный и вежливый мужчина лет сорока, бритый наголо и с тощей котомкой (как я потом узнал, в ней умещалось все его имущество) за плечами. Дом у нас был очень гостеприимный, время было обеденное, так что незнакомца (звали его Дангом) немедленно пригласили за стол. Монах оказался человеком весьма образованным, и прадед с дедом явно наслаждались беседой с ним. Всего за полдня он ухитрился очаровать всех, кроме прадеда, который, ухмыляясь, сказал мне, когда мы остались одни: «Увидишь, этот сладкий монах не просто так пришел, чаю попить с семьей Ван».
Впрочем, никто никуда не торопился: сначала устройство гостя, обед, приятная беседа… А с вопросами кто, откуда и зачем пришел, можно было не спешить. Вечер закончился приятно, мне велели сводить гостя перед сном на реку и отправляться спать. Так что о делах (какие, впрочем, могут быть дела у нищенствующего монаха) никто не говорил. Захочет, сам скажет назавтра.
Утром в деревне встают рано. Так было заведено и у нас. В шесть утра я должен был уже тренироваться. Да что там я, «муравей на травинке», на заднем дворе собиралась вся большая семья, включая моих сестер. Те, правда, занимались несколько по другой программе, но от этого эффективность их мастерства ни в коей мере не уменьшалась. Каждый знал, что ему делать, никто никому не мешал, старшие давали задание младшим, разбивали их по парам, исправляли ошибки. Прадед занимался только со мной одним. «Для всех остальных, – говорил мне он, – есть твои отец и дед. Лучше них не найти мастеров во всей стране. А я уже старый, мне тяжело, – в этом месте он обязательно подмигивал мне, – я больше уже никого не обучаю».
Когда мы с прадедом приступили к отработке парной техники, во двор вошел вчерашний монах. Видимо, он тоже не привык поздно спать, потому что, судя по всему, уже успел сходить на речку искупаться. Прямо от ворот он направился к нам. То, что он умел гладко говорить, я заметил еще вчера. Но сегодня он был отменно вежлив, еще вежливее, чем накануне. Говорил он, обращаясь к прадеду, но так, чтобы слышали другие.
Суть его речи была простой. Он проделал длинный путь, чтобы познакомиться с нашим фамильным боевым искусством. Он преисполнен всяческого уважения к нашему клану, который оказал ему столь радушный прием, и просит у главы семьи (тут он глубоко поклонился прадеду) позволения остаться у нас на какое-то время, чтобы изучать технику «Счастливого пути». Еще, если это возможно, он просит, чтобы кто-то из младших учеников дал ему урок мастерства прямо сейчас. Если глава клана сочтет это невозможным, то он, Данг, сейчас же уйдет, призывая на нас благословение Будды.
Смысл его речи был понятен даже мне. Он вызывает на поединок (разумеется, дружеский, без всякой крови) кого-то из нашей семьи. Насчет «младших учеников» – это, конечно, вежливый треп, чтобы старшим мастерам не пришлось терять лицо, отказываясь от схватки. Если ему понравится, то он просит разрешения у нас поучиться. Если ему откажут (побоятся, например), то он без всяких обид уйдет.
Ответ прадеда был неожиданным. Он сообщил, что ему некого выставить против такого сильного бойца, которым наверняка является монах Данг, в связи с чем он будет драться сам. И не потому, что рассчитывает на победу, а потому, что он очень немолод и проигрыш такого старика не опозорит школу «Счастливый путь». Что взять с человека, у которого уже взрослые правнуки. При эти словах он указал на меня.
Что же касается обучения в нашей школе, то сейчас он ничего сказать не может, так как если Данг выиграет, то семейству Ван самому придется приглашать его в учителя.
Несколько позднее я спросил прадеда, почему он решил все сделать сам, а не выставил кого-то другого. И вот что он мне ответил:
– Тут есть две стороны. Одна из них – это честь школы, в чем она заключается, я думаю, тебе объяснять не надо. Вторая – это моя собственная честь, которая в данном случае заключается в том, что до тех пор, пока я самый сильный мастер школы, я не имею права выставлять на поединок с серьезным противником кого-то другого. Я точно не знал тогда истинной силы Данга. На первый взгляд он показался мне примерно равным по мастерству твоему отцу. Так что твоего отца выставлять было нельзя, он вполне мог и проиграть. Беспокоить твоего деда по всяким пустякам мне не хотелось, он тоже далеко уже не юноша, а вот я как раз то, что надо, – расхохотался он.
Надо отдать монаху должное, к поединку он подготовился очень быстро: просто сбросил куртку и остался в одних штанах. Вид у него был достаточно угрожающий – такого мощного телосложения ни у кого из бойцов нашей школы и близко не было, даже отец не выглядел таким крепким, как он. А что говорить о прадеде… Однако тот никак не выглядел смущенным. Наоборот, он подошел к монаху и одобрительно похлопал того по литому плечу.
– Пожалуй, ты слишком силен для меня, – сказал он. – В рукопашной схватке я тебя не одолею. Предлагаю схватку с оружием. Это хоть как-то компенсирует мой почтенный возраст и физическую слабость. Каждый выбирает свое любимое оружие.
Монах легко согласился и побежал в комнату, в которой он ночевал и где оставил свой шест. Прадед же остался на месте. Когда Данг, вернувшись, увидел, что прадед не сдвинулся с места, он удивился и спросил, чем же тот собирается драться.
– Вот мое любимое оружие, – ласково сказал прадед, поднимая обе ладони вверх.
Судя по тому, что на улыбчивом лице монаха впервые за все время появилось озадаченное выражение, такого оборота событий он не ожидал.
– Впрочем, – продолжил прадед, – другое оружие у меня тоже есть.
С этими словами он извлек из каких-то складок на одежде пару бамбуковых палочек для еды и демонстративно заткнул их за пояс. Такой выбор монаха не удивил, видимо, он знал и о таком оружии. Он согласно кивнул, глубоко поклонился и закрутил свой шест.
– Смотри, бездельник, – проговорил дед. – Вот это блестящая техника шеста. Конечно, не такая, как у нас…
Тут он был прав. В нашей школе шест совсем не такой. Длиной он больше человеческого роста и толщиной с предплечье взрослого крепкого мужчины. Поэтому он такой тяжелый, что его все время приходится держать двумя руками. У монаха же шест был покороче и заметно тоньше, поэтому и техника у него была совсем другая: легкий шест у него постоянно переходил из руки в руку, плетя затейливые кружева вокруг тела. Он не торопился нападать, давая всем возможность посмотреть на свою технику. А посмотреть действительно было на что: за шестом было почти невозможно уследить, казалось, два его конца были повсюду: сверху и снизу, слева и справа, спереди и сзади.
Прадед же стоял совершенно неподвижно и лишь одобрительно кивал, глядя на искусство Данга. Наконец тот сделал шаг вперед и на прадеда обрушился град ударов, которые, казалось, сыпались одновременно со всех сторон. И тут прадед повел себя совершенно не так, как учил меня, заставляя избегать ударов или встречать их «вскользь», чтобы не повредить себе руки. Он все делал наоборот! Не сдвигаясь с места, он под каждый удар подставлял предплечье или голень. Причем не по касательной, а перпендикулярно. Стук стоял такой, как будто кто-то колотил деревяшкой по деревяшке. Наконец монах нанес особенно сильный удар, раздался хруст и его шест разлетелся пополам, причем отлетевший кусок каким-то совершенно немыслимым образом оказался в руке у прадеда. Он очень легко ткнул им Данга, и тот упал на землю, явно полностью парализованный.
– Точечное касание, – объявил прадед. – А теперь пришел черед моего оружия. – С этими словами он достал из-за пояса палочки для еды и ткнул Данга в две нужные точки. – На этом все, теперь идем завтракать, – объявил прадед, подавая руку Дангу, к которому после такого «лечения» мгновенно вернулась способность двигаться.
* * *После завтрака прадед отвел в сторону меня и Данга.
– Ты странствующий монах, – сказал он, то ли спрашивая, то ли утверждая.
– Да, уже лет двадцать, – ответил Данг.
– И ты по-прежнему хочешь учиться у меня?
– Еще больше, чем раньше. У вас потрясающее искусство защиты и вы владеете искусством точечного касания лучше, чем кто-либо, кого я видел. И наконец, я специально посмотрел на ваше предплечье, когда у вас за завтраком задрался рукав: никаких следов на тех местах, которыми вы отбивали удары шеста. Даже красных полос на осталось.
– Прекрасно. Тогда мое предложение таково. Передать тебе технику и методы обучения нашей школы я не могу – традиция не позволяет. Но ты человек, несомненно, достойный, и я готов сделать для тебя нечто другое, что будет намного эффективнее, чем с азов (а иначе не получится) начинать обучать тебя нашему стилю. А именно: не передавать тебе что-то новое, а наполнить твое искусство новым содержанием. Тебе это интересно?
– Очень!
– Тогда предлагаю тебе обмен. Ты берешь вот этого оболтуса, – прадед положил мне на плечо руку, – и странствуешь с ним, ну, например, месяца три. После этого ты должен вернуть мне его целым и невредимым, потому что он не только дурак, лентяй и дармоед, но и мой любимый правнук. Что поделать, – лицемерно вздохнул он, – такова воля Небес. Лучшего у меня нет, так что приходится работать с тем, что досталось.
При этих словах монах посмотрел на меня, причем взгляд его изменился, стал цепким и внимательным. До этого момента он совершенно не обращал на меня внимания. Ну дали вчера ему пацана, чтобы тот показал ему кратчайшую тропинку на речку. Теперь совсем другое дело, ему, может, этого пацана придется брать с собой в длинную, небезопасную и совершенно непредсказуемую дорогу.
– Вообще-то я всегда странствую один, – нерешительно сказал Данг. Мысль о том, что ему придется тащить с собой меня, его явно не радовала.
– Так и я вообще-то чужих не учу, – немедленно откликнулся обладавший блестящей реакцией прадед.
– Ладно, – задумчиво проговорил монах, – но не слишком ли он молод и не слишком ли строптив? Боюсь, мне с ним в пути не управиться. А дорога предстоит нелегкая, мальчик он, как я понимаю, домашний, опыта путешествий никакого, и если он не будет делать то, что я ему говорю, как я смогу за него отвечать?
– Видишь, – прадед посмотрел на меня, – у тебя на морде написано, что характер у тебя дрянь. Но скажи, ты сам хочешь отправиться в путешествие?
Сказать, что я хотел посмотреть на мир, значило ничего не сказать. Кроме того, и Данг мне нравился. Совершенно нормальный мужик, хоть и монах.
– Если пообещаешь во всем слушать Данга, отправишься вместе с ним. Если нет, останешься дома. Тоже, кстати, совсем неплохо.
Я старательно закивал, всем своим видом изображая пай-мальчика.
– Вот видишь, – обратился прадед к Дангу, – он вообще-то нормальный мальчишка, если пообещает, то никогда не нарушит слова. Да и не так уж он и мал. Тринадцать недавно исполнилось. Так что, берешься?
– Берусь, – тяжко вздохнул Данг.
* * *Суету и женские охи по поводу моего ухода в путешествие с совершенно незнакомым человеком прадед пресек быстро и велел, чтобы вместо того, чтобы кудахтать, как куры, женщины готовили меня в дорогу. Узнав, что я ухожу примерно месяца на три, мать с бабкой прикинули, сколько еды понадобится двум мужикам на девяносто дней, и приступили к сборам. Дом у нас был небедный, они вытащили из кладовок кучу разного добра и начали все это паковать. Монах смотрел на эти приготовления с изумлением. Когда он попытался что-то сказать прадеду, тот только махнул рукой: Пусть делают, что хотят, потом, может, и сами поймут.
А груда еды, которую мать с бабкой предполагали дать нам в дорогу, все росла. Одного риса был такой мешок, что весил наверняка больше, чем я. Кроме того, там была еще одежда, обувь и еще много всякого барахла.
Первым не выдержал отец:
– И как, вы думаете, они все это повезут? – ехидно спросил он у своей жены и тещи.
Те за словом в карман не полезли:
– Возьмем телегу, запряжем туда буйвола, он еще больше утащит.
Ответом им был громкий хохот.