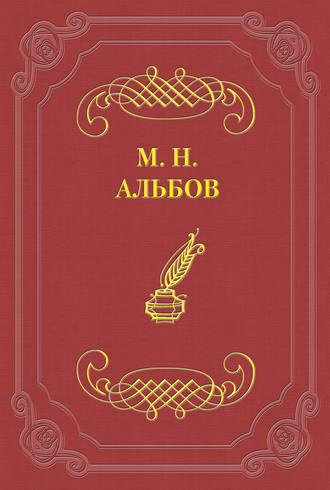
Михаил Альбов
На точке
Он оттолкнул от себя плоды своей музы и задумался долгою и тяжелою думой… Посидев так несколько времени, он поднялся со стула, сгреб все тетради в охапку, отнес в печку и предал сожжению.
Так он покончил со своею авторскою деятельностью.
И вот очутился он в Пыльске.
Длинная комната со светлыми стенами, увешанными ландкартами, с черною доскою в углу и параллельными рядами черных парт, унизанных юношами с красными воротниками и светлыми пуговицами. Поодаль, на стуле, – фигура длинного, худого мужчины в темно-синем форменном фраке министерства народного просвещения… Это – IV класс Пыльской гимназии, а длинный мужчина на стуле – директор.
Филипп Караваев читает свою первую лекцию по теории русской словесности.
Он выступал приготовленный. Программа предмета созревала у него в течение всего предыдущего лета. Краткое вступление и начало, посвященное древнему эпосу, стоили трудов целой недели. Накануне, с утра, он заперся в квартире, засел к столу, с пером и бумагой, и проработал до самого вечера. Плоды этой работы – вот эта тетрадка почтовой бумаги, исписанная красивым, тщательным почерком, по которой он читает теперь своим слушателям.
Пронзительный звонок в коридоре возвещает окончание урока.
В тетрадке остается еще с десяток страниц. Ему досадно, что он не рассчитал объем первой лекции соответственно времени, но все же решается прочесть до конца. В коридоре топот и гам вырвавшихся иззаперти гимназистов. А он все читает… В окружающей его тишине все явственнее прорываются знаки сдержанного нетерпения. Сам директор ворошится на стуле… Но он все читает… Наконец директор встает и заявляет, что можно уже прекратить. Он умолкает, прячет тетрадку в карман и, отдав классу короткий поклон, направляется, пропуская вперед себя директора, к выходу.
– Прекрасно-с! – говорит ему тот, когда они пришли в канцелярию, где учителя курят и завтракают. – Только позвольте заметить вам: не лучше ли было бы и проще в устном рассказе, а не но тетрадке?
Разговор происходит среди группы преподавателей. Особенно внимательно прислушиваются: батюшка в фиолетовой ряске и с наперсным крестом, протоиерей из городского собора, состоящий в звании законоучителя, и рыженький человечек в синих очках – математик.
Он дает объяснение, откровенно заявляя, что этот способ удобнее для него потому, что он далеко не в той степени владеет языком, как пером. Он и впредь намерен составлять лекции письменно. Устное изложение у него неминуемо должно выйти бледным, сухим, между тем как самый предмет его имеет своею целью не одно только пичканье фактами. Имея дело с образцами поэтического творчества, он требует той красоты в передаче, которая должна способствовать духовной связи, устанавливающейся между поэтом и воспринимающей плоды его вдохновения массой, так как произведения поэтического творчества имеют дело с живым, непосредственным чувством.
– Так-с! – откликается вдруг математик. – Но я полагаю, что цель всякого преподавателя среднего учебного заведения, который передает сведения по известному предмету, есть развитие умственных способностей, в обширном смысле: памяти, логики и проч. Возьмем, например, математику. Она занимает, бесспорно, первое место в смысле науки, удовлетворяющей цели развития, и потому…
– Извините! – перебивает его Караваев, которому его собеседник, свысока и, как ему кажется, будто даже презрительно цедящий сквозь зубы слова, становится вдруг почему-то чрезвычайно противен. – Извините, я смотрю на свой предмет несколько шире. Математика приносит свою долю пользы как умственная гимнастика, что ли, но она ничего не дает от себя… Способность мыслить свойственна каждому, и мы знаем примеры многих знаменитых людей, которые были в свое время крайне плохими математиками… Даже вот скажу про себя: в гимназии я терпеть не мог математики и всегда ни бельмеса не смыслил во всех этих биномах Ньютона, синусах, тангенсах и всей этой штуке!..
– Да-а? – тянет, прищурившись поверх очков, человечек и как бы весь расплывается в ядовитой усмешке. – В таком случае интересно бы было, если бы вы потрудились разъяснить те широкие задачи, которые заключаются в преподавании благосклонно избранного вами предмета… Если не ошибаюсь, вы изволили выразиться, что таковые вы признаете в одной русской словесности? Кажется, так?
И рыженький человечек обводит присутствующих ироническим взглядом и потом останавливает его на своем оппоненте. В эту минуту он делается положительно уже ненавистным Филиппу Филиппычу.
– Можете иронизировать сколько угодно, – возражает Караваев, весь трясясь и пылая, – но навязывать мне слова, которых я не сказал, не имеете права! Кто говорил о широких задачах? Никто не говорил о широких задачах! Я хотел только сказать, что математика, как имеющая исключительной целью формальное развитие головы, – наука односторонняя. С одним этим далеко не уедешь! В человеке, кроме того, существуют способности творческие, существуют воображение, фантазия, наконец внутренний мир, стремления духа… Математика, как и все те науки, которые называются точными, не имеют целью воспитывать…
– Прекрасно-с! – запальчиво перебивает его человечек. – Следовательно, словесность – предмет воспитательный?..
– Да, воспитательный! – еще запальчивее перебивает его Караваев.
– Погодите! Воспитательный? – переспрашивает человечек.
– Воспитательный! – настаивает Караваев.
– Чудесно-с! В таком случае какое место вы отведете религии? – задает вопрос «человечек,» ехидно подмигивая в сторону батюшки…
Тот откашливается, расправляет на груди цепочку креста и с значительным видом гладит бородку.
– Религия – дело другое… Входя в область веры… – начинает Караваев, но математик тотчас же его прерывает:
– Как? Как? Как вы сказали? Веры? Одной веры?
– Да, веры… Я сказал…
– Постойте. Вы сказали: одной только веры?
– Погодите…
– Нет, вы погодите…
Бог знает, к чему бы мог привести этот спор, но его прерывает звонок, возвещающий окончание большой перемены. Преподаватели поспешно хватают журналы, и антагонисты расходятся, приобретя с этой минуты друг в друге врага…
Так началась его учебная деятельность в Пыльске.
Он горячо принялся за дело. Он остался верен своей системе – письменного составления лекций, и на эту работу уходило у него все его время. Каждая была плодом самого добросовестного изучения необходимого для нее материала. Задаваньем уроков наизусть он не обременял своих слушателей. Все дело ограничивалось письменными работами в конце каждого месяца, отметки за которые выставлялись в журнале, в качестве «месячных» баллов.
В то же время он продолжал стоять особняком от всего окружающего.
Со своими товарищами – преподавателями он мало сошелся. Бывая на их вечеринках, с неизбежным преферансом и выпивкой, он чувствовал себя лишним гостем. В танцах он не участвовал, а чтобы не изображать из себя совершенно статуи молчания, прилеплялся к какому-нибудь из гостей, лишь только в нем замечал так же мало участия к предлагаемым развлечениям, и затевал с ним пространную беседу на какую-нибудь серьезную тему…
«Байбак!» – подслушал он раз, совершенно случайно, из одних дамских уст… Он знал, что это относилось к нему, и этого было достаточно, чтобы он совершенно уже отстранил себя от женского общества.
Вскоре, однако, произошел случай, который внес в его жизнь неожиданный для него элемент.
В числе его учеников из старшего класса был юноша, которому он постоянно ставил полные баллы за подаваемые им сочинения. Они всегда щеголяли литературностью изложения, местами даже изяществом. Любимцев между учениками у Филиппа Филиппыча не было, но в данном случае он не мог не обратить внимания на этого юношу. Это был тонкий и стройный блондин с большими карими глазами, обладавшими постоянно каким-то пристальным и вдумчивым взглядом. Он тотчас же сделался симпатичен Филиппу Филиппычу. Фамилия его была Хлебников.
Раз он отличился особенно, так что Филипп Филиппыч, придя в класс и раздав всем тетради, счел нужным сделать ему нечто вроде овации.
– Лучшая из всех работ, – заявил он, – и на этот раз, как всегда, Хлебникова. Я должен был поставить ему высший балл – пять с крестом!
И, передавая зарумянившемуся от польщенной гордости ученику тетрадь его, он прибавил:
– Прочитайте, пожалуйста, вслух свое сочинение.
Когда тот прочел, Филипп Филиппыч воскликнул:
– Превосходно! Вот как надо писать!
По окончании урока Хлебников остановил его в коридоре.
Краснея и конфузясь, он передал ему свою просьбу. Она заключалась в следующем. Хлебников писал стихи, их у него накопилась целая тетрадь, и ему очень хотелось, чтобы учитель прочел их и дал ему свои указания.
Филипп Филиппыч отвечал, как подобало, выражением полной готовности и пригласил его прийти к нему вечером…
Тот последовал приглашению, и затем между ними установились самые короткие отношения.
В одно из своих посещений, проходивших в беседах по поводу прочитанных юношей книжек, которые он брал у Филиппа Филиппыча, Хлебников открылся, что он издает в классе рукописный журнал, в котором несколько его товарищей принимают участие. Караваев живо заинтересовался и поручил ему привести с собой всю эту компанию, назначив для этого вечер.
В этот вечер квартира Филиппа Филиппыча представляла необычное зрелище.
Кабинет был чисто прибран, и все вещи стояли и строгом порядке. Кроме лампы на столе, перед диваном, горела пара свечей. Там виднелся поднос с чайным прибором и десятком стаканов и тарелок с печеньем, сластями и фруктами. У стола теснились полукружием все собранные сюда наличные стулья. Сам хозяин, облеченный в свой лучший сюртук и причесанный волосок к волоску, стоял в дверях прихожей, тоже освещенной, против обыкновения, пожимая, руки входившей со двора гурьбе гимназистов под предводительством Хлебникова.
Гости усаживались полукругом на стульях. Все сидели красные от смущенья, молчали и только покашливали. Хозяин «пробил лед» заявлением:
– Господа, будьте, пожалуйста, без церемоний. Кто курит – не стесняйтесь, курите!
Хлебников первый достал папиросу и закурил. Его примеру последовали кой-кто из гостей.
Подан был самовар, и мало-помалу завязалась беседа. Сперва говорил один только Хлебников, прочие же испускали лишь изредка членораздельные звуки, но затем понемногу разговор оживился. В нем отсутствовало все, что касалось гимназии. Вечер вышел литературным. Хлебников показал Филиппу Филиппычу пачку принесенных с собою нумеров «журнала». Он назывался: «Звезда» – журнал литературный и юмористический… Говорили о журнале, о том, кто что пишет в нем, как кто начал писать вообще и при каких обстоятельствах, что послужило первоначальным толчком… Беседа затянулась до полночи, и компания разошлась, когда все угощение было уж съедено, хотя тема беседы оказалась неисчерпаемою… Все были оживленны и болтали без умолку. На прощанье хозяин звал всех заходить к нему без стеснения и совершенно неожиданно вдруг для себя предложил:
– Знаете что, господа? Не завести ли нам у меня постоянные собрания, в определенные дни? Например, по субботам… Это самый удобный день, как канун воскресенья… Согласны?
Общество отвечало шумным согласием.
– Итак, до субботы, – повторил Филипп Филиппыч, после чего вся ватага, со смехом и шутками, вывалила из прихожей на улицу.
Этот вечер стал памятен ему навсегда! Он принадлежал к одному из самых светлых периодов жизни. Он сам был тогда так еще молод, столько еще наивной, младенческой веры оказалось в душе его, начинавшей уже, как мнилось ему, засыхать под влиянием нелюдимого его одиночества!.. И он думал тогда, что ему суждено воспрянуть и обновиться в юношу былого периода, когда он бродил но приволью тамбовских степей… Милое, славное время!
Вот эти субботы… На столе бурлит самовар, испуская струи белого пара, лампа кротко мерцает, играя алмазными искрами в ледяных узорах на окнах, а вокруг – молодой, раскатистый хохот, споры и крики… Кто-то какие-то стихи декламирует, беспрестанно прерываемый звуками других голосов, из которых один о чем-то взывает к Филиппу Филиппычу. А он шлепает своими мягкими туфлями, благодушно слоняясь по комнате. Гости его совсем позабыли о нем, а он рассеянно ловит тот или другой клочок фразы из раздающегося вокруг него шума речей, и такие мысли проносятся в его голове:
«Славно! Торжествуй, Филипп Караваев! Почем знать? Пройдут года, и на небосклоне нашей литературы засветится еще несколько звезд… Может быть, огонек, что теплится еще только пока в этих юношах, заблестит ярким пламенем, и если этому суждено совершиться, заслуга принадлежать будет тебе!»
Да, это было милое, славное время!
Теперь он смеется над своими минувшими думами, и непростительным чудаком рисуется ему тогдашний Филипп Караваев, в звании преподавателя русской словесности в казенной гимназии, а все-таки вот и теперь его сердце испытывает старую боль при воспоминании о разразившейся вскоре после того катастрофе.
В гимназии произошел великий скандал. У одного из учеников старшего класса найден был нумер рукописного журнала «Звезда»… Пожалуй, все это было не важно, и дело можно бы было объяснить юношеским легкомыслием, посадив главных зачинщиков в карцер, но оно принимало совершенно другой оборот в силу того обстоятельства, что при дальнейшем расследовании оказалось прямое участие тут самого преподавателя русской словесности, потворствовавшего этой затее, вместо того, чтобы противодействовать ей, как требовала того его прямая обязанность…
Скандал вышел совсем беспримерный. Караваев погорячился и наговорил много лишнего. Произошла новая сценка с учителем математики, которого он назвал тупицей…
Филипп Филиппыч подал в отставку.
Уныло и смутно встретил он следующий день. Это как раз была суббота. Неодетый, немытый, он просидел дома, не выходя даже на улицу, не будучи в состоянии чем-либо заняться, даже чтением, слонялся бесцельно по комнате, бросался по временам на диван, где лежал, тупо смотря в потолок; вскакивал, снова слонялся – и ждал с нетерпением вечера…
Наконец настал вечер. По обыкновению, на столе перед диваном зажглась пара свечей, озаряя поднос со стаканами и тарелки с сластями и фруктами. Он ходил из угла в угол и беспрестанно смотрел на часы. Так медленно приближалась стрелка к римской цифре VIII, обозначавшей обычный час прибытия юных гостей!.. Вот наконец часы стали бить… Он остановился в своей прогулке по комнате и застыл в ожидании… Вот-вот звякнет сейчас колокольчик!.. Нет, тихо по-прежнему, и свечка уныло мигает в прихожей. Он снова принялся шагать. Вот четверть девятого, вот половина… Он шагал, останавливался, то прислушиваясь, не дрогнет ли звонок, то проницая сквозь стекла окошек в уличный мрак, и снова шагал… Часы медленно, плавно, словно издеваясь над его нетерпением, пробили девять… В квартире было по-прежнему тихо. «Что ж это значит? что их задержало? Непременно, непременно их что-нибудь задержало!» – шептал он, опять принимаясь шагать… Он не допускал даже мысли, что они не придут! Они должны прийти, именно теперь-то, теперь-то они и должны!.. А стрелка часов медленно, неумолимо продолжала свой путь вокруг циферблата… Он ходил, садился, вставал и снова ходил, тупо смотря себе под ноги… Часы пробили десять… В комнату заглянула кухарка с вопросом, не пора ли подавать самовар… Он бессмысленно посмотрел на нее и долго смотрел, стараясь уразуметь, о чем она его спрашивает, потом нетерпеливо махнул ей рукою. Тут только впервые ударила в его голову мысль, что он ждет напрасно, что они не придут, совсем не придут!.. Он медленно, как бы весь ослабев, опустился в угол дивана, склонившись головою к рукам, и зацепенел, словно мертвый… Он теперь уж не ждал. Он знал, что они не придут. Он не думал о них, и ни о чем он не думал. В голове и душе было пусто, во всех членах усталость, и он все сидел, не шевелясь, истуканом, с головою, опущенной на руки… Наконец он встряхнулся, встал и взглянул на часы… Стрелка на циферблате приближалась к двенадцати… Свечи на столе догорали, освещая тарелки с приготовленным для гостей угощением. Огарок в прихожей потух, и там стоял мрак… Он задул свечи, в темноте направился в спальню, в темноте же разделся, лег ничком на постель и заснул тяжелым, похожим на оцепенение сном…
На другое утро он проснулся разбитым, однако тотчас же оделся и, не напившись даже чаю, отправился из дому. Он держал путь к гимназии.
По дороге ему попадались шедшие в одиночку и парами, в ту же сторону, как и он, гимназисты. Некоторые ему снимали фуражку.
Вон по той стороне идет юноша. Филипп Филиппыч узнал его и устремился навстречу, через перекресток. Только его одного, этого самого, он и хотел теперь видеть…
Это был Хлебников. Он шел медленно, опустив голову книзу и поддерживая рукою портфель. Случайно он взглянул на противоположную сторону улицы, и глаза его встретились с глазами Филиппа Филиппыча…
Лицо его вспыхнуло. Он торопливо приподнял фуражку – и в ту же минуту ускорил шаги.
Филипп Филиппыч остановился, как столб, смотря вслед удалявшемуся из глаз гимназисту. Он был потерян и уничтожен, как человек, которому нежданно-негаданно дали вдруг оплеуху…
В воздухе зарябил крупный снег… Над самым ухом Филиппа Филиппыча крикнул что-то мужик на шибко катившей телеге, чуть не сбив его с ног… Он тронулся с места и побрел восвояси… А снег все валил и валил тяжелыми хлопьями, погребая под своей пушистой пеленою предметы, и казалось Филиппу Филиппычу, будто он, этот снег, вместе с тем погребает и его самого, вместе со всем для него дорогим и заветным, что навсегда уже скрылось из глаз и больше никогда не вернется…
Придя домой, он тотчас же принялся укладывать свои книги и вещи и к вечеру очутился вот здесь, в этих стенах, на этой тихой окраине…
С тех пор прошли годы.
Вскрывалась, опять цепенела и снова вскрывалась, унося свои ледяные оковы в далекое море, речка Смородка… Переменяли и сбрасывали и вновь надевали зеленый убор свой деревья… Наступила и отошла в область забвения эпоха реформ… Прогремела и кончилась война франко-прусская… Люди рождались, любились, умирали и вновь нарождались… Много воды утекло!
Филипп Филиппыч постарел, потолстел и обрюзг. Во всем остальном он остался таким же. Такими же остались и самые стены тихой обители, которые видят, как спит, просыпается, ест, сидит и работает живущий в них старый байбак… Пусть там, где-то вдали, шумит и волнуется бурное житейское море! Ни им, ни ему нет до этого ни малейшего дела. Здесь, в тишине и безлюдии, вдалеке от всего, что терзает или радует суетный род человеческий, зреют идеи и планы, которые ведает один их носитель, а до всех остальных они отнюдь не касаются! Счастлив ли он? Да, он счастлив… Он счастлив этой, всегда интересной, разнообразной, таинственной, вечно юной и неизменной жизнью природы, грозной в сверкании молний и завываниях снежных метелей – и ласковой, любящей в лучах ясного солнца, животворящего и хлебный злак и лесную былинку. Он счастлив своим личным покоем, книгами, и полной ни от кого независимостью… Да, он счастлив, счастлив, конечно!
Но что же значат эти приливы глубокой и безысходной тоски одиночества, которые по временам его посещают, так что все, чем полна его жизнь, становится ему вдруг ненавистным?.. В эти минуты ему хотелось бы лишь одного. Ему бы хотелось, чтобы все, что он когда-либо пережил, изучил, перечувствовал, оказалось одним смутным сном, а он проснулся бы вдруг тем давнишним, смешным фалалеем, который некогда плакал на подоконнике петербургской гостиницы… Что все эти планы, надежды, цели, упования? Вздор!.. Тихое, теплое пожатье женской руки… Нежный ласковый голос… Слова без значенья, звучащие лишь трепетной музыкой робкого чувства… Миг, только миг такого блаженства – и он упился бы им на всю жизнь! Миг, один только миг – он больше не требует, потому что ни одного такого он не изведал еще никогда!..






