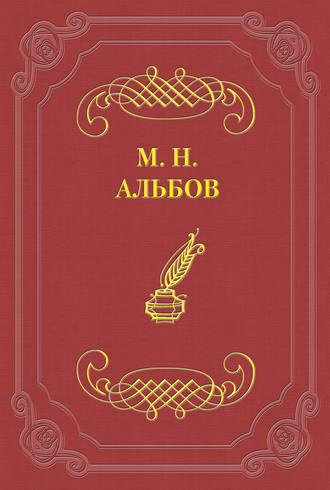
Михаил Альбов
На точке
Он зарыдал на всю комнату, стеная и всхлипывая уже впрямь как ребенок…
И если б тогда, в ту минуту, чья-нибудь рука любовно легла ему на плечо – только, не больше, – он бросился бы на грудь тому человеку и отдал бы ему всего себя, безвозвратно, и так бы излил свое сердце:
«Нет, нет, это не малодушие! Вздор! Я на себя клевещу! Я верю в себя, верю в силы, которые бьются во мне, потому что я их чувствую, да! Я верю во что-то, что выше и лучше всего, что я видел между людьми, чья целая жизнь – еда и покой… Только я ласки хочу, самой простой, маленькой ласки, которой я не знал никогда!..»
Но в комнате не было никого, кроме него, и он одиноко плакал на своем подоконнике, давая полную волю слезам, которыми выливалась вся мука его молодого несогретого сердца…
Он встал с сухими глазами. Стены номера, казалось ему, смотрели с насмешкой. Пара свечей на столе сонно подмигивали… Он взял ту и другую, подошел к длинному зеркалу, которое виднелось в простенке, и, встав против него, осветил себя с обеих сторон…
На него взглянула из рамы фигура здорового румяного малого, с распухшим носом и скривившимися в жалкую гримасу губами…
«Баба!» – прошептал он презрительно и показал язык своему отражению.
Затем он поставил свечи на прежнее место, запер окно, разделся, лег – и почти тотчас заснул, без грез и видений, крепким, здоровым сном утомленного путника.
Так ознаменовался его приезд в Петербург.
И вот университет… Все ужасы, которые рисовал молодой человек в своем представлении о чуждых и безучастно к нему относящихся лицах, разлетелись как дым с первых шагов его вступления в студенчество… Нашлись и земляки, объявились милые, душевные люди, лихие товарищи, от одного соприкосновения с которыми тотчас же исчезли его дикость и недоверчивость… С самозабвеньем и пылом молодых нерастраченных сил ринулся он с головою в новую бесшабашную жизнь… Слишком уж много было прельщений для его свежей, первобытной натуры, вскормленной в сонном приволье тамбовских степей, далеких от чар цивилизованной жизни.
Весь семестр промелькнул как один смутный сон, составленный из эпизодов беспорядочного, труда и хмельного угара, вперемежку с отрывками разных сцен и событий: «Gaudeamus igitur, juvenes dumsumus…»[17], беснованье целою партией в театральном райке в честь любимой артистки, разбитые стекла в трактире, ночное шатанье толпою, при этом чьи-то окровавленные морды – и экзамен, после тяжелого ночного похмелья… Как бы то ни было, первый курс пройден… Весна… И опять громыханье вагона по рельсам, бегущие мимо полосатые верстовые столбы, беззаботная трель жаворонка, реющего чуть видною точкой в небесной лазури, и родные поля!
И вот он опять на своем пепелище… И отец и брат – оба такие же, не изменились нисколько с тех пор, как он с ними расстался, точно это случилось только вчера… Оба, кажется, рады ему, на глазах старика даже слезы… Но почему же сам-то он, про себя, чувствует какой-то разлад, который возник между ним и всем окружающим? Нет, он не вырос нисколько в глазах этих людей, и они смотрят на него с любопытствующим снисхождением, а самые стены, кажется, шепчут ему: «Ты не наш!»
А все-таки он, как ни на есть – интересный приезжий, видавший многие виды, и от него ждут рассказов… И он рассказывает – о Казанском соборе, Неве, Эрмитаже, театрах… Все это он видел своими глазами!.. А дальше-то что – самое главное, что вынес он из своих исканий света и знания?.. Возникают в памяти, как отрывки кошмара, стычка с полицией по поводу одного скандала, чьи-то разбитые скулы, батарея бутылок, сидящие без сюртуков фигуры товарищей… И жгучая краска залила его щеки, на душе стало вдруг мрачно и скверно, и губы лепечут опять о Неве и Казанском соборе…
– Н-да, любопытно! – произносит не то насмешливо, не то равнодушно брат Павел, весь запыленный и мокрый от поту, вернувшийся с поля, и суетливо нахлобучивает на себя свой грязный картуз, чтобы опять ехать на мельницу…
А отец – тот не произносит даже и этого, а только молча отвертывается, чтобы выколотить свою погасшую трубку, но и спина его и затылок, кажется, говорят молодому человеку с сарказмом: «Э-э-эх!.. Фалалей, брат, ты, как и был, фалалеем ты и остался!»
Томительно-медленно для него тянется время вакаций… Но вот, слава богу, и август!.. Опять сборы, затем расставанье – как и тогда, год назад… Надолго ли? До весны? Он не знает… Он бросает прощальный взгляд на родные стены, в которых протекли его детство и юность, а те опять ему шепчут: «Нет, ты не наш!»
Совсем с другими мыслями и чувствами приехал он теперь в Петербург. В течение всей длинной дороги в нем зародился и вырос новый внутренний человек, с которым (да, это так, решено!) он вступит теперь на жизненный путь!..
– А, Караваев!.. Вот он, Караваев!.. Душка! Голубчик! Ну что? Ну как?.. А наших, брат, опять та же компания!.. Да обнимайся же, черт!!
Он жмет руки, переходит из объятий в объятия, среди шумных и радостных восклицаний своих покинутых на лето добрых товарищей, и он всем им рад, и они все ему рады – а внутренний его человек в это время шепчет ему: «Помни смотри и будь тверд!»
«Да уж это конечно, авось хватит характера!» – отвечает он ему про себя и, для начала, отказывается наотрез идти вместе с компанией отпраздновать свидание выпивкой.
Все за минуту веселые лица вокруг него становятся вмиг укоризненными и огорченными.
– Да ты это что же?.. С ума сошел? Вот те фунт! Это уж свинство! Товарищ!.. Не ожидали, брат, этого! – сыплются на него восклицания, а он молчит и внутренне страдает, но непреклонен в решении и в конце концов остается один…
Да, он хочет и будет, он уже бесповоротно решил, что будет один!
И вот он один в своей комнате. Ломберный стол, который имеет назначение письменного, завален записками лекций и книгами разных форматов – все лексиконы да творения латинских и греческих классиков. Время у него распределено в строгом порядке. До обеда – на лекциях, а вечер – здесь, за этим столом… Он весь ушел в работу и за этой работой был счастлив… Все свои развлечения он ограничил театром, а с прежними товарищами совсем разорвал. Те сперва приставали, потом, при встречах, стали посматривать с тем пытливо-подозрительным выражением, какое бывает при виде человека, у которого, как говорится, на чердаке не все ладно, и наконец оставили его совершенно в покое. Ему только это и требовалось.
Как бы то ни было, у него все-таки оставались еще кое-какие знакомства (в Петербурге их нельзя избежать) – и он сперва появлялся в двух-трех семейных домах, по случаю тех или других фамильных торжеств. Там он страдал несказанно. Он был так застенчив, неловок, даже нелеп. Скольких усилий стоило ему хоть на время забыть, что у него существуют руки и ноги, с которыми он в этих случаях не знал, что ему делать, как это удается другим, чувствующим себя повсюду легко и свободно, а главное – он совсем, совсем не умел говорить! Во время общей беседы, когда все болтали, что вздумается, другие даже просто-напросто глупости, он пребывал безмолвен, как рыба, а когда, вооружившись вдруг храбростью, открывал было рот – в ту же минуту он с ужасом делал открытие, что мысли его, те самые мысли, которые он только сейчас имел в голове – вдруг исчезли куда-то, совсем, безвозвратно – и опять он смыкал уста свои печатью молчания… С барышнями, особливо хорошенькими, он чувствовал себя вполне уже несчастным… А эти проклятые фанты! О, вот где было истинное наказание божеское!! Участвуя в них, он становился совсем идиотом, – а между тем, как назло, волей судьбы ему выпадало играть в них самые дурацкие роли, как, например, «стоять в виде статуи», «быть зеркалом» и т. п., и он, глубоко страдающий, хотя и с насильственно-напряженной улыбкой, весь красный, в испарине, не находил в себе сил возмутиться…
«фу-у!.. Черт бы побрал их!» – восклицал он, измученный, вернувшись домой, в свою одинокую комнату…
А здесь ждал его письменный стол, на нем же тетради и книги.
И тогда мало-помалу светлый покой нисходил в его смятенную будничной пошлостью душу, и все впечатления от этих пустых, банальных речей, глупых фантов и нелепого смеха, доставивших ему столько страдания, исчезали бесследно в лучах красоты, что лились с этих старых пожелтевших страниц, будя те тонкие незримые струны, которые жили в нем, молчаливом, смешном фалалее, сказавшись впервые в душе его еще там, далеко, среди степей провинциального его захолустья, в трелях поднебесного жаворонка и колыханье былинок – и звучат вот теперь постоянно во всем, что его окружает: и в красках петербургского неба, и в мелодии музыкальной пьесы, и в рифмованной строчке читаемой книги…
На лето он домой не поехал… Вместо того он нанял избу в одной из деревень, под Петербургом, и провел все вакации в одиноких прогулках по лесам и лугам, с палкой в руке и какою-нибудь книгой в кармане. Случалось, лежа под деревом, вынет он из-за пазухи записную тетрадь, карандаш и примется торопливою рукою нанизывать на чистых страницах короткие строчки… О существовании этой тетради не знала ни одна душа во вселенной. Она заключала в себе его первый авторский опыт, созревавший на летнем досуге, – большую поэму, в героическом духе, под заглавием «Кейстут»…[18]
К концу вакаций поэма поспела. Возвратившись в столицу, он переписал ее набело и, замирая, отнес в одну из редакций.
Спустя положенный для прочтения срок ему ее возвратили… Он стоически перенес неудачу и, не делая больше попыток пристроить свой труд, спрятал под спуд его, к прочим бумагам. «Терпение!» – решил он про себя и отдался усердному посещению лекций. А тем временем, между делом, наполнялась себе втихомолку другая тетрадь, посвященная стихам в антологическом роде…
Он работал усердно по-прежнему и по-прежнему много читал, замкнувшись в себе еще больше. Знакомства он прекратил и остался верным одному только театру.
Тетрадь стихотворений испытала участь «Кейстута». Отнесенная в редакцию, она возвращена была автору. Он присоединил ее, как и прежнюю рукопись, к прочим бумагам и принялся за повесть из современного быта, которую назвал «Недолгое счастье».
Он совсем отделил себя от всего, что существует вовне, словно вся эта видимая жизнь человечества, которое что-то делает, куда-то стремится и о чем-то хлопочет, было нечто совсем постороннее, случайное и преходящее, область каких-то фантомов, истинный же центр всей вселенной – тот мир стройных поэтических образов, которые всегда останутся вечными в созданиях великих художников.
А между тем временами чувство чего-то особенного, неудовлетворенного и не могущего быть замененным изучением созданий искусства, поднималось вдруг из недр его существа, заставляя его в эти минуты испытывать состояние глубокой и безысходной тоски… Образ женщины возникал перед ним в те минуты… Неуловимы и смутны были ее очертания, и ни одно из когда-либо виденных им женских лиц не походило на этот, живший в душе его образ, беспрестанно менявший свое выражение: то стыдливый и твердый в исполнении долга, как Татьяна из «Онегина», то нежный и самоотверженно любящий или гордый и негнущийся в бедствии, как диккенсовские Агнеса Викфильд из «Копперфильда» и Эсфирь из «Холодного дома»…[19] Неужели они – лишь создания фантазии? Нет, невозможно!.. Они жили и теперь существуют, только он-то ни разу их не встречал и никогда, во всю жизнь, их не встретит, неуклюжий и смешной фалалей!..
А тем временем там, в действительной жизни, происходили события, занимавшие собою Европу. Настала эпоха крымской кампании…[20] Он все-таки не настолько себя обособил, чтобы не знать о войне: о ней говорили вокруг, он и сам читал об этом в газетах… Только и это, как и прочее все, шло мимо него, и он совсем мог бы остаться чуждым этим событиям, если бы не один неожиданный случай, который, будучи связанным с ними, врезался навсегда в его памяти.
Однажды утром он, к великому своему изумлению, вдруг увидел перед собою отца!.. Старый кавалерист точно с неба свалился. Сын протер глаза свои, в первую минуту подумав, не грезит ли он. Но нет, старик был тут, живой, воочию! Он тискал молодого человека в объятиях, обдавая его памятным запахом Жукова, которым, как и всегда, были прокопчены его седые усы, смоченные теперь слезами свидания… А тем временем извозчик вносил и расстанавливай в комнате чемодан и прочие вещи приезжего…
– Папаша! Да вы ли это? Какими судьбами? – вымолвил наконец насилу пришедший в себя от изумления сын.
– Я! Сам! Проездом! Проститься!.. Еду, брат!
– Как? Куда едете?
– Под Севастополь… В ополчении я!
– Вы?.. В ополчении?..
– Чего уставился?.. Ну да! Я!.. В ополчении! Что ж тебе удивительно?
– Господи боже мой! – нашелся только воскликнуть молодой человек.
А путешественник между тем возился со своими вещами и его тормошил, произнося скороговоркой:
– Вот что, брат, как бы насчет самоварчика?.. Да послать бы чего-нибудь закусить… Деньги-то есть ли? А не то вот, возьми… Да водицы бы мне… Рожу умою, а потом сейчас же и марш! Съездить надо в несколько мест… Теперь-то мне растабарывать некогда, а вот ужо, только управлюсь, поболтаем как следует.
Молодой человек чувствовал себя точно во сне, и отец, которого раньше он не мог себе представить иначе, как облеченным в халат и лениво слоняющимся с трубкою в руках, из угла в угол их деревенского дома, являлся теперь перед ним каким-то особенным, совершенно иным, незнаемым им до этой поры человеком. Это состояние не покидало его во все продолжение времени, которое тот провел в Петербурге, постоянно возбужденный, как в лихорадке, проникнутый одною идеей о Севастополе, и когда, наконец, на платформе вокзала старик в последний раз обнял его и вошел в двери вагона, а поезд свистнул, охнул и, тронувшись, мало-помалу скрылся из глаз, – он вернулся к себе под впечатлением какого-то смутного и беспокойного чувства, которое звучало резкою нотой в стройной гармонии привычных его ощущений, чуждых всегда тревожных волнений по поводу чего бы то ни было, что не касалось сферы его дорогого искусства…
Впрочем, впечатление это вскоре изгладилось под влиянием одного случившегося после того обстоятельства. А именно – повесть «Недолгое счастье», подобно всем предыдущим продуктам его литературного творчества, потерпела фиаско в редакции… Тогда, в первый раз, он предался раздумью по поводу своей авторской деятельности… В результате получилось решение – не складывать рук, а потому он и начал тотчас же новый рассказ, с менее сложным, однако, сюжетом…
А время все шло своим чередом, и в мире действительной жизни события тоже шли своим чередом… Крымская кампания кончилась, и ему еще раз пришлось испытать отражение этой эпохи в обстоятельствах своей личной жизни.
На его имя пришло письмо с черной печатью, в котором брат Павел извещал о смерти отца… Старик был убит в деле 4 августа, на Черной реке…[21] Филипп Караваев приглашался домой, для участия в разделе наследства.
Два года он уже не был на родине. Короткое свидание с отцом в Петербурге, а затем это письмо, с вестью о нем, писанное знакомым почерком брата, явились отзвуком чего-то далекого, нравственные связи с которым навсегда уже порваны… Что было ему делать в деревне?.. Он ответил, с приложением формальной на имя брага доверенности, что вполне полагается на его добросовестность и считает поэтому свое личное присутствие во время раздела излишним.
Студенческие годы шли к окончанию… Вот и последний экзамен, а с ним – и рубеж новой жизни.
За все это время он так обособился, так сжился с своей раковиной, своим одиночеством, книгами, обычными, изо дня в день повторяющимися явлениями трудовой аскетической жизни, что теперь он почувствовал себя в положении человека, который все время плыл по тихим водам и вдруг очутился в бурном потоке… Положение было дико и странно… Оказывалось, что он совсем не сам по себе, а таков же, как все, тоже член общества, которое на него имеет нрава, ждет от него исполнения известных обязанностей, что ему предстоит теперь указать для себя одну из клеточек в общей таблице, так как вне какой-либо клеточки немыслим никто, не принадлежащий к числу паразитов на общественном теле, что, словом, он должен избрать для себя «род занятий»… Это было для него неприятным открытием.
Правда, и раньше не раз, в последние месяцы студенческой жизни, смущали ровное течение обычных мыслей его гаданья о будущем… Но это будущее почему-то казалось таким отдаленным, а главное, не имеющим никакого отношения к насущным заботам! Определенное решение совершенно не складывалось в его голове. Возникали, как бы в тумане, планы о магистерской диссертации, мечтанья о кафедре – и расплывались, не оставив после себя впечатлення. Теперь эти мысли возникли настойчивее, так как явилось неожиданно одно обстоятельство, требовавшее решения тотчас же. Дело касалось предложения вакантного места преподавателя русской словесности в одной из провинциальных гимназий.
Новоиспеченный кандидат филологии предался раздумью.
Магистерство… Кафедра… Пристань, в которой можно навсегда успокоиться, – и ведут к ней годы упорной, сухой и копотливой работы, в круге одной специальности, которую необходимо избрать и на всю жизнь в ней, замкнуться. Опять эти безмолвные, одинокие стены, вороха книг и тетрадей, мерцание лампы… Вон там, за окном, неумолкаемый уличный грохот и лихорадочная сутолока мчащихся куда-то людей, среди этих бледных, словно болезненных, стен громадных каменных масс, унылых, как гробы… О, как все это надоело, противно!.. А запруженное клочьями разорванных туч суровое небо вдруг прояснилось улыбкой, бросив скупой, негреющий луч заходящего солнца, ласковая струя ветерка невесть откуда примчалась в окно, пошевелила полуопущенной шторой и, пробежав по столу, загроможденному ворохами книг и бумаг, шаловливо перевернула страницу раскрытой тетрадки… Как будто некий незримый посланец веселой весны заглянул в эту затхлую комнату, чтобы сказать о других небесах, где солнце расточает свои жаркие ласки, в душистой прохладе поет соловей и, глядясь в светлую гладь задремавшей реки и млея в истоме, шепчутся между собой камыши…
В душе кандидата сразу созрело решение, которое вырвалось в произнесенном вслух восклицании:
– Еду!
Он заявил о своем согласии принять место в провинции и стал собираться в дорогу.
Последний вечер своей петербургской жизни он провел в укладке вещей. В нем не было ни грусти о прошлых студенческих годах, ни мечтаний о будущем… Ничего дорогого, заветного, что приходилось покинуть, в памяти его не отыскивалось. Прожитое являлось в виде прямой, однообразной дороги, пройденной без усилий и утомления, и такая же прямая дорога простиралась перед ним впереди. Что могло на ней встретиться дальше – он о том не загадывал, как не загадывает о случайностях своего путешествия всякий проезжий, который остановился на станции и ждет, пока подадут ему других лошадей. Он может торопиться и волноваться по поводу цели поездки, но это его не обязывает помнить о местности, которую он уже проехал, или замечать придорожные деревья и верстовые столбы в дальнейшем пути.
Разбирая бумаги, он наткнулся на свои забытые рукописи. Вот поэма «Кейстут», вот «Недолгое счастье»… Он машинально стал перечитывать и незаметно увлекся этим занятием. Вот эпизоды, сцены, отдельные фразы… Все это переживалось во время писанья, но теперь, после промежутка известного времени, казалось чем-то чужим, посторонним… И, одно за другим, перед ним возникали открытия. Все, что когда-либо им было прочитано у известных писателей и произвело впечатление, оказывалось воспроизведенным на этих страницах, в другой только форме… Вот, почти целиком, глава из «Гражины» Мицкевича, вот тут похоже на «Демона» Лермонтова, дальше не обошлось даже без Кукольника…[22] В повести «Недолгое счастье» Гоголь и Диккенс выглядывали из каждой строки…






