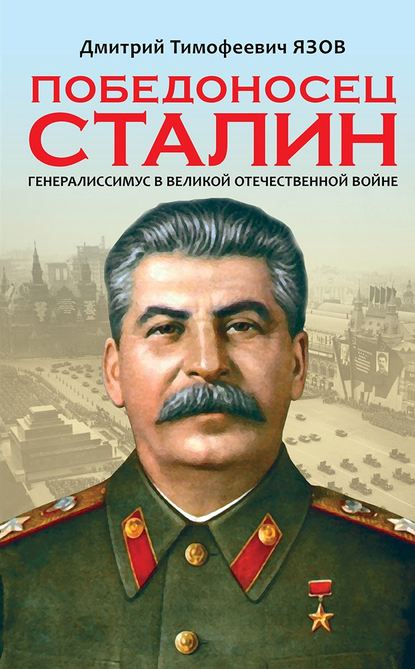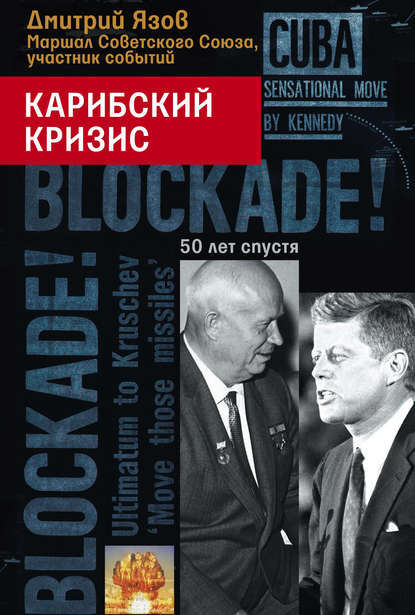Полная версия:
Дмитрий Тимофеевич Язов Маршал Советского Союза
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Дмитрий Тимофеевич Язов
Маршал Советского Союза
Вместо предисловия
Мы с Дмитрием Тимофеевичем ровесники и по годам, и по службе в первой ее половине. На фронте и он, и я в 1942 году командовали взводами и ротами. Мы однокашники по Военной академии им. Фрунзе, позднее командовали полками, дивизиями.
Ну, а потом моя судьба свернула на тернистую писательскую дорогу, а Дмитрий Тимофеевич продолжал продвигаться по служебной лестнице и дошел до самых высоких званий и должностей.
Но, достигнув головокружительных высот, Дмитрий Тимофеевич не заболел «звездной болезнью», оставаясь для меня и многих других сослуживцев добрым, отзывчивым товарищем.
Я знал, что маршал пишет мемуары, и думал, что начнет он, как и многие наши военачальники, свои воспоминания с далекого детства, «глухой деревеньки», «бедняцкой многодетной семьи», словом, с того, что читателям давно уже известно.
Но, открыв первую страницу рукописи, я с радостью обнаружил: Дмитрий Тимофеевич поступил, как опытный литератор, он не пошел затоптанными мемуарными тропами, набившими оскомину.
Главы о катастрофе, называемой «перестройкой», перемежаются с воспоминаниями об участии Язова в Великой Отечественной войне. А страницы, передающие высочайший накал роковых событий августа 1991 года, а затем и описывающие пребывание автора в тюрьме, подкреплены фактурными пластами жизни и службы в мирное время.
Без нажима и педалирования на трудности и заслуги маршал – узник «Матросской тишины» – как бы подчеркивает: вот смотрите – вы посадили за решетку патриотов земли русской, отдавших все свои силы и знания защите Родины.
Общая конструкция книги, организация обширного и очень сложного материала, осуществленная автором мастерски, умение справиться с такой махиной и не утонуть в море событий, охватывающих полувековую жизнь и службу, – это не каждому посильно.
Хочу отметить, что маршал Я зов, как и маршал Жуков, писал свои мемуары, находясь в опале. Оба были неугодны власть имущим, оба создавали свои книги без помощи литзаписчиков, и оба с большим трудом добивались опубликования своих рукописей.
Главное маршалом Язовым сделано: книга написана, и ей предстоит занять достойное место в нашей отечественной Истории.
Владимир КАРПОВ, Герой Советского Союза,
лауреат Государственной премии СССР,
лауреат международных премий, академик, писатель
Из Фороса – в Москву
Это случилось в 2 часа 15 минут 22 августа 1991 года. Разрывая густые облака, самолет Ил-62 вышел на посадочную прямую во Внуково.
Предчувствуя недоброе, я всматривался через иллюминатор на ярко освещенную прожекторами площадку перед Внуково-2, где уже суетились какие-то люди в камуфлированной форме, бегали солдаты. «Ну что же, – подумал я, – освещают, значит, вот-вот грянет политический театр. Статисты уже под «юпитерами».
Перед нами приземлился Ту-134, на котором прилетел президент М.С. Горбачев со своей прислугой и охраной. Сопровождали его из Фороса А. Руцкой, И. Силаев и В. Бакатин. В этот же самолет под предлогом «поговорим по душам в самолете» пригласили и В. Крючкова.
Мы – А.И. Лукьянов, В. И ваш ко, О.Д. Бакланов, А. Тизяков и я – вылетели из Крыма через 15–20 минут после президентского лайнера.
И вот поданы трапы. Я обратил внимание, что к каждому трапу поспешили крепыши из соответствующих спецслужб. Они приняли устрашающую стойку, пытаясь припугнуть кое-кого из именитых пассажиров. Первым к трапу направился В. Баранников. Оценив все эти маневры, я сказал сопровождающему меня полковнику П. Акимову, что мы подоспели к аресту.
– Не может быть, – возразил он, – от президента передали: вам назначена встреча в Кремле в 10 часов утра.
Спустившись по трапу, мы направились к зданию аэропорта. При входе в зал Баранников сказал Акимову: «Вы свободны», а затем мне: «А вас прошу пройти в следующий зал».
Вошли в небольшую комнату, где обычно размещалась охрана. Здесь к нам поспешил незнакомый человек с копной нестриженых волос на голове. Он довольно бойко представился: «Прокурор Российской Федерации Степанков Валентин Георгиевич!» – и спросил, есть ли у меня оружие. Затем объявил, что я арестован по подозрению в измене Родине в соответствии со статьей 64 УПК.
За дверями рычали автомобили. Люди из ведомства Баранникова выстраивали машины. Меня подвели к «Волге», толкнули на заднее сиденье между вооруженными автоматами Калашникова охранниками.
Наступила зловещая тишина. Темная беззвездная ночь давила на сознание: «Я арестован».
В. Крючкова арестовали минут на двадцать раньше. Он уже сидел в одной из машин, запрудивших весь проезд у боковых ворот аэропорта. А.Тизякова арестовали чуть позже. Мы долго сидели в машинах. Баранников витийствовал, продолжая «украшать» машины арестантами. Между «Волгами» с «изменниками» расставлял автобусы с курсантами Рязанской школы милиции. Я конечно же знал старинную русскую поговорку: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», – и вот наконец-то ощутил ее гнетущий смысл.
Я представил, что происходит сейчас в Баковке, на даче, где осталась моя супруга Эмма Евгеньевна. Она была «закована» в гипс и не могла передвигаться без посторонней помощи. «Там наверняка, – думал я, – собрались лучшие ищейки, идет грандиозный шмон». «Куй железо, пока горячо» – этим лозунгом руководствовалась рвущаяся к власти «волчья стая».
На снисхождение рассчитывать было легкомысленно. Поверженных политических противников принято добивать.
С 19 августа 1991 года эта «стая» фактически приступила к захвату всей полноты власти на общегосударственном уровне. Стороннику Ельцина Степанкову необходимы были улики, факты для обоснования ареста руководителей ведущей державы мира.
Наконец, колонна тронулась в путь. Вышли на кольцевую дорогу, повернули на север. Сначала я ехал без фуражки… в салоне было душно, но вскоре, когда «Волгу» разогнали, в машине стало прохладнее, пришлось ее надеть. Это заметил следовавший за нами «наблюдатель», он быстро догнал нашу машину и, поравнявшись с нами, обратил внимание охранников на мою фуражку. «Не попытается ли он сбежать? Не подает ли фуражкой сигнал к побегу?» – очевидно, подумал этот бдительный страж.
Фары высветили целующихся прямо на обочине парня и девушку, рядом стояли два их обнявшихся велосипеда. Один из охранников сострил что-то в адрес парочки, и опять наступила гнетущая тишина. Колонна повернула на Ленинградское шоссе…
Дорога была мне знакома. В 1942 году по этой дороге мы – курсанты Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР – переезжали из Лефортовских казарм в летние лагеря на берегу красивейшего озера Сенеж под Солнечногорском.
Мысли перенесли меня в военное лихолетье, поближе к юности. Вспомнились Сибирь, Язово – мое родное село, Новосибирск, где начиналась моя служба.
Удары судьбы… Мысли… В эту ночь, пока мы ехали неизвестно куда, вся моя жизнь прошла перед моим мысленным взором, щемя сердце.
Путь к фронту
Враг подходил к столице. Московское Краснознаменное пехотное училище по решению Ставки Верховного Главнокомандования направили на фронт в состав 16-й армии генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Командовал училищем генерал-майор С. Младенцев, а воевать курсантам пришлось вместе с 316-й стрелковой дивизией генерал-майора И.В. Панфилова.
Заместителя начальника училища подполковника Жебова вместе с заместителями командиров батальонов эвакуировали в Новосибирск. Фактически в ноябре 1941 года в Сибири училище предстояло воссоздать.
8 ноября мне исполнилось семнадцать лет, и я в очередной раз обратился в военкомат с просьбой направить меня на фронт. Чтобы не отказали, пришлось пойти на маленькую хитрость – приписать себе год. В деревне тогда паспортов не было, проверять долго не стали, и меня направили в Новосибирск в распоряжение начальника МКПУ[1].
Стояли сибирские трескучие морозы. Занятия шли в основном в поле, одеты мы были более чем скромно: бушлаты, ботинки с обмотками, хлопчатобумажные гимнастерки и брюки – и тем не менее не мерзли: терпели. Командирами отделений были фронтовики, выписавшиеся из госпиталей. Нагрузка была такая, что пот прошибал в самые морозные дни. фронтовики были для нас олицетворением дисциплинированности и справедливости. От них мы многое узнали о настоящей войне, они-то и подготовили нас к принятию военной присяги. Недостаточно сказать: «Я клянусь быть честным», – надо было им быть.
Подъем в 6.00, зарядка на свежем воздухе. В декабре температура минус 40 градусов, чувствовали себя неуютно, но постепенно втянулись, и за полтора месяца мы, вчерашние школьники, превратились в молодых воинов.
Были среди нас и такие, кто, как и я, прибавили себе по году, а затем, расписавшись в своей беспомощности, ушли из училища. Мой же одноклассник Илья Юрченко, повстречавшись в Язово с моей сестрой Верой, поведал ей, как нам достается служба, так что через неделю она приехала «выручать» меня.
Встретились мы в выходной день, сестра передала мне гостинцы от домашних, поплакала, повздыхала, глядя на мою изрядно поношенную буденновку. Я как мог успокоил ее, сказав: из училища не уйду. Вера поведала мне, что Федора Никитича, нашего отчима, призвали в армию. Мать плачет – на ее руках осталось семеро несовершеннолетних детей, а Лизу, Лену и Веру мобилизуют для работы на военных заводах, которые вывозили из западных районов страны в Сибирь.
В декабре, когда враг под Москвой был разбит, прошел слух: скоро мы поедем в столицу. Естественно, мы радовались победе под Москвой и тому, что мы, необстрелянные курсанты-первогодки, направляемся в столицу.
И в самом деле, 14 января 1942 года нас погрузили в теплушки, и наш эшелон двинулся на запад. Ехали по бескрайним просторам Западной Сибири, по морозной Барабинской заснеженной степи, по обе стороны от состава полоскалась на ветру натянутая от земли до небес метельная простыня.
Сибирь начали заселять еще при Петре I, когда на Иртыше были заложены крепости Омская, Павлодарская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская. Омскую крепость заложил подполковник И. Д. Бухольц, но вскоре она была разрушена, а гарнизон уничтожен. Отряд под командованием полковника Пастушенко восстановил Омскую крепость и, продвигаясь на стругах вверх по Иртышу, поставил новые крепости.
В Омскую слободу крестьяне переселялись из Тюмени, Тобольска, Тары. Одним из основателей деревни Куликовой был Петр Григорьевич Куликов со своими братьями и сыновьями. В числе первых жителей этой деревни были и крестьяне Кругловы, Измаилов, Язов. Язовы в Сибирь переселились из Великого Устюга Вологодской губернии, а затем из Тобольска пошли искать счастья и лучшей доли дальше, в Омский уезд. В ревизской ведомости 1811 года указывалось, что Язовы из Калачиков переехали на Лебяжье озеро «во вновь заводимое село Язово».
Озеро Лебяжье на редкость было богато рыбой. Ковыльное степное разнотравье, березовые колки, между которыми раскинулись черноземные гривы, – все это и привлекло моих предков основать в округе село. Пахотных земель, сенных покосов, пастбищ для выгона скота и березового леса для строительства жилья было достаточно, а что еще надо трудовому люду?
«В 1826 году крестьянин деревни Юрьевой Чердынцев выхлопотал право на переселение к Пресновскому озеру. К пяти семьям переселившихся старожилов казенная палата по указу от 21 июня 1828 года за номером 2155 направила к этому же озеру еще 16 семей переселенцев, прибывших из Рязанской губернии». Эти данные я почерпнул из книги профессора А.Д. Колесникова и привожу их потому, что мой дед по материнской линии, Федосей Андреевич Язов, женился на Алене Кирилловне Васильевой из деревни Пресновка, ее предки вели свой корень из Рязанской губернии.
По отцовской линии мой дед – Язов Яков Миронович – женился на Пелагее Степановне из Оконешниково. Это село было основано в 1816 году крестьянином Козяковым и изначально называлось Козяково.
Озеро Лебяжье имело да, к счастью, и сегодня имеет основания для столь поэтического названия: горделивые белоснежные птицы прилетают сюда на все лето, сначала выводят здесь птенцов, а потом учат их летать. Лебяжье – любимое место рыболовов и, к сожалению, браконьеров.
Кроме озера Лебяжье, вокруг села еще несколько мелких озер и болот: Мартышкино, Куликово, Кочковатое, – на их берегах гнездились утки, кулики, чибисы и другая болотная и озерная дичь. Охотников – метких стрелков в селе было предостаточно, как и в целом в Сибири, многие этим промыслом и кормились.
Русские о Сибири были наслышаны до прихода туда татаро-монгол. Владелец татарского юрта в Сибири Едигер еще в 1555 году прислал к Ивану IV послов поздравить царя с победой над Казанским и Астраханским царствами и просил взять под защиту разбросанные на громадных сибирских просторах малочисленные разноплеменные селения.
В 1556 году Иван Грозный отправил в Сибирь в качестве посла и сборщика дани Дмитрия Курова. Но к этому времени сильный хан Кучум пленил Едигера и убил первого русского посла. Кучум крайне враждебно относился к Московскому государству и даже направил царевича Маменткула с войском на реку Чусовую, чтобы воспрепятствовать расширению владений русских.
Но уже летом 1579 года Никита Строганов принял на службу казаков с Волги и Дона под началом Ермака Тимофеевича – с целью расширить свои владения и освоить земли за «камнем», то есть за Уральскими горами. Кучум же, прослышав о приближении русских, собрал войско и под командованием Маменткула дал жестокое сражение на реке Тобол, но Маменткул был разбит. Вскоре та же участь постигла самого Кучума, он откочевал на юг, в степи. Сказывают, победители голодали: бухарские купцы так и не смогли по рекам пройти через земли Кучума для торговли с русскими и коренными жителями Сибири.
И тогда сам Ермак с отрядом в 50 человек отправился на стругах вверх по Иртышу в надежде повстречать купцов. С 5 на 6 августа отряд расположился ночевать на берегу Иртыша. В это время на другом берегу стояло войско Кучума. Под шум ветра и дождя Кучум незаметно переправился через Иртыш и напал на спящий отряд. Ермак попытался добраться до струга, но не сумел – утонул в Иртыше…
Кучум кочевал в Барабинской степи до 1591 года, пока воевода князь Кольцов-Масальский не разбил его близ озера Чили-Кула. В это же время начали строиться в Сибири города Пелым, Березов, Сургут, Тара, Нарым, Кетский Острог.
* * *Теплушки в дороге были нашими классами, мы изучали пулемет «Максим», ручной пулемет Дегтярева (РПД), самозарядную винтовку Токарева (СВТ), 50-миллиметровый миномет, пистолеты, гранаты и даже трофейное оружие. Занятия проводили фронтовики: старший сержант Филипцев, сержанты Зайкинский и Филатов. Они были ранены на фронте, и после лечения в госпитале их откомандировали в МКПУ
Вскоре наш эшелон миновал станцию Татарская, а это уже кулундинские степи. Вместе с покойным отцом Тимофеем Яковлевичем я мальчуганом уже побывал в этих краях. «Кулунда» в переводе с татарского означает «жеребенок в густой траве».
…Кормили нас в дороге горячей пищей только в крупных городах, таких, как Омск, Челябинск, Казань, Сызрань.
До Москвы мы ехали целый месяц. Бывало, по двое суток, так случилось в Казани, эшелон наш стоял, заниматься строевой подготовкой нам довелось прямо на привокзальной площади.
Прибыли мы на Курский вокзал столицы в середине февраля, откуда пешком прошли до лефортовских казарм. Здание училища – бывший кадетский корпус. Наша 9-я рота размещалась на втором этаже, окна выходили на Красноказарменную улицу с видом на Лефортовский дворец.
Тактикой мы обычно занимались в парке Московского военного округа. Вспоминаю, как в один из налетов фашистской авиации мы лишились превосходного тира длиной в триста шагов, поэтому для отработки одиночных упражнений пришлось выезжать из Москвы в Ногинск.
По выходным дням мы трудились в Москве, скалывали лед с мостов, убирали снег на Красной и Манежной площадях, готовились к празднику – Дню Красной Армии.
Накануне праздника в училище прибыл член военного совета Московского военного округа генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, он вручил награды офицерам. В последующие годы генерал-лейтенант Телегин был членом военного совета ряда фронтов, но так и не получил повышения в звании. Ходили слухи, мол, на него было заведено дело Главным управлением контрразведки РККА «СМЕРШ». По делу проходило 8 человек.
Чуть позже бывший глава «СМЕРШа» генерал-полковник B.C. Абакумов покажет на допросе: «Дело это было весьма важное… Оно связано с маршалом Жуковым, который является опасным человеком».
Нынешние демократы, так же, как и Абакумов, считают Жукова «опасным человеком». Здесь они смыкаются с мастеровыми палачевых дел всех времен. «Демократические журналисты, – пишет великий русский писатель Василий Белов, – не только развенчали подвиг легендарной Зои, они попытались представить бессмысленной и гибель моего отца в 1943 году. И если прежде русские люди всеми силами защищали Москву, нынче они обороняются от Москвы «демократической». Чудовищно, но факт: нам приходится обороняться от Москвы! Все чаще видишь лозунги на демонстрациях: «Дошли до Берлина, дойдем и до Москвы»[2].
Не случайно фальсификаторы всех мастей (Жуков их попросту называл «брехунами») изо всех сил стремятся оболгать Россию, ее полководцев. Проникновенно о Жукове скажет В. Песков: «Вы дороги людям тем, что пришли из гущи народа, в Вашем характере проявился талант русского народа защищать прежде всего свое Отечество. Сколько бы ни стояла Россия, имя Ваше будет святиться!»
А вот что пишет о своем отце Мария Жукова: «Папа! Да святится имя твое. Имя, ставшее символом офицерской чести и долга, доблести нашей армии, человеческого благородства, патриотизма и жертвенного служения своему народу, символом державного духа и защиты гордой страны от любого иноземного диктата! Имя, объединяющее тех, кто борется за могучую, как прежде, державу! Имя, подобное удару меча для всех наших врагов! Имя, освещающее путь офицерам, желающим освободить нас от нечисти!»[3]
Разве мы, молодые курсанты, могли себе представить, что пройдет чуть больше десяти лет, и полководца, который убережет Москву от ворогов и обратит их в бегство, будут распекать на своей партийной планерке Хрущев на пару с Брежневым. И все потому, что, будучи со своей супругой в Большом театре, Георгий Константинович не поприветствовал Хрущева и его свиту. Все зрители встали, когда Хрущев появился в правительственной ложе, и только чета Жуковых никоим образом не отреагировала на появление Хрущева. И как же выговаривали величайшему полководцу всех времен Хрущев и подсуетившийся Брежнев, в чем они только не обвиняли Жукова, и прежде всего – в отрыве от народа.
В Кремле народность понимали прямолинейно: надлежало бурными овациями встретить появление в правительственной ложе партийного сюзерена. И если Жуков отказался принять от издателя из ФРГ в подарок «мерседес», то как же их клянчил в своих многочисленных поездках по зарубежным весям все тот же Брежнев.
Георгию Константиновичу мстили даже тогда, когда он ушел из жизни. Вот как описывает сцену похорон полководца его дочь: «Позвонил маршал Москаленко, подчеркнуто пренебрежительным тоном сообщил: «Наверху решили похоронить Жукова на Новодевичьем кладбище».
Правда, чуть позже переиграли, вынесли решение захоронить в Кремлевской стене, с кремацией.
– Как же так? – возразили мы с бабушкой. – Папа мечтал быть похороненным в земле!
– А где бумага? Он оставил письменное завещание?
– Звони Гречко, – не сдавалась бабушка, – ты наследница, тебя послушают.
Набираю номер телефона. На мою просьбу Андрей Антонович что-то промямлил.
– Звони Брежневу! – стоит вся в слезах бабушка. – Отец защитил Москву, он достоин сам себе выбрать место!
На мою просьбу не сжигать отца, а захоронить в земле по русскому обычаю, Брежнев сухо ответил: «Я посоветуюсь с товарищами».
Эту фразу – «посоветуюсь с товарищами» – от Брежнева слышали часто. «Посоветовался» и сделал по-своему… И вот о чем я подумал: не просто два разных человека присутствовали на памятном спектакле в Большом театре. Если Георгий Константинович Жуков зажег лампаду в православной церкви Лейпцига в 1945 году, то Хрущев опустился до того, что разрушал святыни наших предков, их церкви и монастыри. Это надо же было выдумать врага в образе Сергия Радонежского, Святителя Николая!..
Остается только добавить, что генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, который приехал к нам в училище в грозную годину, умрет своей смертью в возрасте восьмидесяти восьми лет… Генерал-полковник B.C. Абакумов будет приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 19 декабря 1954 года к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведут в исполнение в 12 часов 15 минут 19 декабря 1954 года.
Судьбы людские…
Бытует мнение, что мертвецы земному суду не подвластны. Но говорить об их нравственной ответственности необходимо. Мы не должны забывать о беззакониях – мол, каждому свое, – а должны искать истину.
Вот такие события вспомнил я, проезжая вновь по дороге моей курсантской юности в тревожную ночь после ареста…
«Санаторий» Сенеж. Первые допросы
…Подъехали. Я понял, что это «санаторий» на берегу озера Сенеж. Кроме «санаторных» корпусов, стояло несколько финских домиков, вот к ним-то и притулился наш кортеж. Вдоль дорожки, ведущей на задворки этих домиков, Баранников с помощью офицеров внутренних войск выстроил курсантов Рязанской школы милиции. Нас, троих арестованных – Крючкова, Тизякова и меня, выводили из машин по одному, чтобы даже и взглядом не обменялись. В одной из комнат, пропахшей сыростью, где небрежно была расставлена скрипучая мебель, меня обыскали.
В качестве понятых следователь Леканов с лоснящейся от жира физиономией пригласил все тех же курсантов – Сергея Чижикова и Дмитрия Егорова.
Я посмотрел на часы. Они показывали 5 часов 55 минут 22 августа. Курсанты стояли в растерянности: следователь пухлыми пальчиками выворачивал карманы маршала, ощупывал воротник кителя. Врач, выполняя формальность, поинтересовался: «Вы здоровы? Есть жалобы?»
К этому времени комната наполнилась следователями, привезли аппаратуру, шла какая-то мышиная возня перед допросом. С крайне озабоченной физиономией появился Степанков. Пытался завязать разговор о Хабаровске, передать от кого-то привет… Я прекрасно оценил эту наивную игру в «доброго прокурора» и попросил сообщить моей жене, что я арестован, и привезти мне необходимые вещи. Леканов спросил: «Что конкретно?»
– Бритву, спортивный костюм и прочее.
– А что прочее? Все, что нужно, изложите на бумаге.
Прищурясь, глядя прямо в глаза, Юрий Иванович начал задавать вопросы, которые были подготовлены заранее. Ельцинской обслуге предстояло мне, фронтовику, доказать мою вину перед моим Отечеством. Как мне потом довелось узнать, вопросы сформулировали загодя, утром 19 августа, в ельцинских хоромах на даче.
Изначально разговор шел без записи в протоколе, сыщики полностью доверились магнитофону.
– Судя по нашему разговору, – заметил Леканов, – вы не осознали всей тяжести совершенного преступления и даже не думаете о раскаянии.
Я ответил:
– Хуже преступления, чем развал Союза, придумать невозможно.
Следователь спросил:
– Вы отдаете себе отчет в том, что для вас, а не для кого-то другого, означает статья 64 УПК?
– Понятия не имею…
Тогда он весьма профессионально разъяснил: статья 64 – это измена Родине, деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание помощи в проведении враждебной деятельности против СССР…
Я заметил: Вы сами-то верите, что говорите? Да еще применительно ко мне?
Леканов еще больше сощурил глаза, на лице появилась ядовитая улыбка. Он продолжал: «А равно заговор с целью захвата власти наказывается… но это будет решать суд»…
Чувствовалось, что он гордился знанием УПК, но вскоре я понял: все его знания почерпнуты из газетных и журнальных штампов последних дней: «путч», «неконституционный», «союзный договор», «интернирование», «изоляция», «Белый дом», «штурм».
Леканов взял на себя функции «забойщика», конструктора вопросов и предполагаемых ответов. Допрашивал вежливо, но вопросы ставил так, что я вынужден был отвечать, исходя из его предположений.
Был конец августа. Подступала грибная пора. Плыли высокие облака с востока, как далекий привет с моей Родины. Там наверняка знают: министр обороны арестован. Матери не скажут, ей 88 лет, но она поймет своим материнским чутьем, сердцем и, уж конечно, что-то увидит во сне и свяжет материнский сон с моей судьбой…