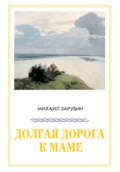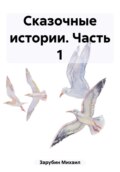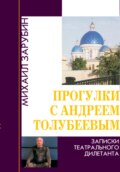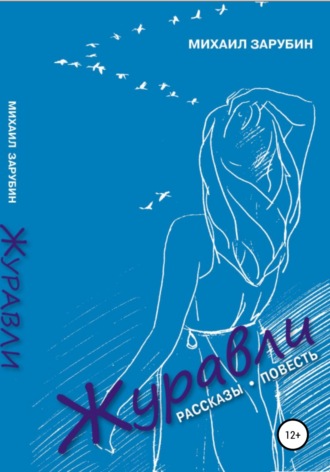
Михаил Константинович Зарубин
Журавли. Рассказы
За дровами

Таежные жители знают, что медведи предпочитают жить в лесу и людям на глаза не попадаться. Поэтому во времена моего деревенского детства встреча с медведем – если это не подготовленная охота – была большой редкостью. Волки – другое дело. Они к нам частенько наведывались зимой в хлевы, даже коров задирали. Голод вынуждал. Прямо за околицей тайга начиналась. Бывало и так: идешь по деревне, слышишь, собаки истошно лают. И холодеешь от догадки: это ж волки рядом! Но никуда уже не деться: волки, лес и деревня – все рядом. Все едино – и они, и мы, и каждому в этом мире свой уголок отведен, свое жизненное пространство. И кто кого больше боится – неизвестно. И можно всем научиться жить бок о бок, если не нарушать древних связей и установленного природой поведения.
Наша деревня зимой – это продолжение тайги. Те же сугробы, темень непроглядная, электричества нет. В некоторых домах закопченные окна тускло светятся – там керосинками освещают помещения. А в большинстве изб проще решали эту проблему – едва стемнеет, ложились спать. Линию электропередачи подтянули к нам, когда я уезжал из деревни, в шестидесятом году. До того электричество имелось только в Нижне-Илимске, где мы в школе учились.
Волки, помню, были, но, чтобы встречаться с ними, как с собаками, мне не приходилось. Убитых видел, разглядывал. Мне казалось, что внешне ничем волк от собаки не отличается. Однако увидеть рядом живого волка, глаза в глаза – не приходилось. Волчий вой не в счет, его слышно издалека. Но по-настоящему я узнал нрав волков, когда чуть не стал неожиданной добычей этих умных, целеустремленных хищников.
Заготовкой дров в деревне обычно занимались весной. После майских праздников деревня пустела: не заготовишь дровишек, зимой замерзнешь. На выделенных делянках валили сосны, пилили их на чурки, кололи пополам, потом складывали в поленницу. За лето все это добро высыхало, и, как только выпадал снег, дрова вывозили на санях. Это была обязанность мужчин. Но у нас в доме их не было, поэтому маме самой приходилось заниматься тяжелым мужским трудом. Конечно, в помощниках были все: и мои сестры, и я. Но валить деревья мне не доверяли – это делали мама с Капой – старшей сестрой. А вот рубить сучья, собирать и сжигать их – исключительно моя работа. К вечеру в глазах темно от усталости. Хотя мама внимательно следила за мной, чтоб не надорвался: когда положено, заставляла отдохнуть, гладила по голове и приговаривала, какой я у нее молодец. Она поддерживала мой трудовой энтузиазм, вливая в меня силы ласковым словом.
За дровами мы ездили вместе: запрячь лошадь да по мягкому снежку проехать – одно удовольствие. Но мне очень хотелось съездить одному. В десять лет я почувствовал себя совсем взрослым и очень сильным. И однажды мне удалось уговорить мать.
Раннее утро. Солнце только проснулось и лениво, по пологой дуге покатило к Красному Яру, словно хотело за него спрятаться и доспать чуток. Мы с мамой на конном дворе запрягли в большие сани молодую сильную кобылицу и, не заезжая домой, отправились в лес. С мамой все было легко и ладно. Кобыла послушно шла по густому лесу, пробивая сильными своими ногами дорогу к делянке, где мы заготовили дрова. Быстро покидали в сани высохшие плащины (половина чурки), и к обеду мы уже дома. Выпросил я у мамы сделать второй рейс самостоятельно.
Она проводила меня до околицы. Хоть и побаивалась за меня, но отпустила. Понимала, что надо мне набираться жизненного опыта. Счастье для меня выпало великое. Еду, песни распеваю, лесные звуки имитирую, скрипучие деревья передразниваю, ветром завываю-посвистываю. Подъехал к делянке. Быстро сложил в сани дрова, обвязал веревкой, морским узлом закрепил для надежности. Вязать узлы меня Володька Седан научил. Все по-взрослому, все по правилам. Отправился в обратный путь с таким радостным настроением, что словами не передать.
Хоть и быстро работал, однако времени много потратил, один же все делал. Засветло не уложился, зимний день короткий. Быстро темнеть стало. И вдруг, уже на подъезде к деревне, недалеко от кладбища, оно у нас Черепановкой зовется, лошадь забеспокоилась, перешла на рысь. Сама, без команды. Попытался ее притормозить – ни в какую. Бежит все скорей. Оглянулся, вижу, к нам какие-то собаки пристроились. Колея на дороге узкая, чуть больше ширины саней. Им в ряд не встать, так они позади бегут, пытаясь обойти нас с боков. Но снег рыхлый, звери проваливаются. Догадка меня ошеломила, я понял, что это не собаки, а волки.
Бегут упорно, сосредоточенно, не иначе, лошадь мою себе на пропитание присмотрели. Да и мной не побрезгуют. Схватился я за облучок крепко, лошадка несется изо всех сил, благо что молодая. Я держусь, чтобы не вылететь. Сани могут в любой момент перевернуться. К счастью, участок дороги был прямой, без поворотов, подъемов и спусков. И вот врываемся на поляну. Деревня совсем близко, собаки зверя почуяли, лаем изошлись. В каждом дворе заливаются, даже дворняги тявкают, а лайки с цепей рвутся. Волки отстали, поняли, что добычу им здесь не взять. А лошадь до самой околицы долетела и встала обессиленная, поняла, бедная, что опасность миновала. На нее смотреть было страшно: бока ходуном ходят, пар от спины валит, морда в пене. Мама уже встречала нас у околицы. Гладит мои руки, замерзшие пальцы оттирает, а я их от упряжи отцепить не могу: не разгибаются. Дыхание перехватило, только мычу и головой назад показываю. Отдышались вместе с лошадью, мать взяла ее под узду и молча, покачивая головой, повела домой. И вся моя прежняя радость и гордость за себя улетучились. Томило чувство непонятной вины. Наверное, потому, что огорчил маму, заставил так переживать. Мою дорогую, любимую, ненаглядную маму…
Поджигатель

Первое мая. Демонстраций с портретами вождей и криками «ура» в Погодаевой никогда не проводили. Зато всегда был веселый праздник на знаменитой деревенской поляне. У взрослых свои развлечения, у ребятни свои радости. Мы играли в разные игры. В этот раз – после лапты и городков вдруг решили поиграть в войну. А какая война без взрывов и пламени?
В первые дни мая все машины, работающие на заготовке леса, обычно возвращались в деревню. Водители торопились. Конечно, они не на парад вели своих железных коней, а домой спешили. Хотелось им отдохнуть, в бане помыться, погулять, посидеть за столом с родными, друзьями и знакомыми, вспомнить военные годы, боевых товарищей. Машины оставляли на краю поляны, сторожей никогда не было, никто воровством не занимался. И кому-то из ребят пришла в голову идея: отлить из автомобильных бензобаков немного горючего и сделать «коктейль Молотова». Про коктейль этот – то ли читали, то ли старшие рассказали. Банку или бутылку с бензином кидали в костер, и – взрыв! Чтобы все по-настоящему было. Как на войне. Пока разливали горючку, измазали руки в бензине. Кто-то обратил внимание на руки Вовки Петухова, изъеденные кровоточащими «цыпушками». А у кого-то появилась попутная идея – сейчас же вылечить Вовкины руки. Кажется, Вовка Куклин эту идею и подал. Наше деревенское детство, у меня в том числе, проходило под знаком этих самых «цыпушек». Кисти рук и ступни ног от воды, грязи и неизвестно от чего еще растрескивались, кровоточили, боль была нестерпимая. Чем только наши матери не смазывали нас, но не успевали закрыться старые ранки, как появлялись новые.
И вот Вовка Куклин говорит Вовке Петухову: «Слушай, ты бензином смочи свои цыпушки, потом огонька сюда, они обгорят и пропадут». Целительное изобретение было единогласно одобрено. Петухов поверил консилиуму и облил свои руки бензином. Куклин уже чиркнул спичкой… Тут я соображаю, что еще мгновение, и «петух» загорится. В отчаянном броске я выбиваю эту спичку, она падает на землю, пропитанную бензином, пламя обретает очертания дракона, подкатывается под машину, и бензобак моментально вспыхивает. На меня кричат – обвиняют в поджоге, я в ответ тоже кричу, что Вовку от огня спасал. Огонь разгорается, перебранка тоже. Похватали ведра, бросились к реке, плеснули воды, а пламя еще больше. Уже горит машина. Кузов у нее деревянный, колеса резиновые, все пылает. К нам бегут люди – тушить машину. Мы от них – врассыпную. Ребята на бегу не успокаиваются, мне пеняют: «Это ты машину поджег!..» Ну, все, теперь не оправдаться – я главный поджигатель. Жалко себя стало: на праздник штаны незаштопанные надел, рубашку новую, сандалии у старшей сестренки выпросил. Кому-то праздник, а мне за доброе дело – наказание. Что теперь будет? Страшно подумать. Домой прятаться не побежал. Вдоль леса и – на хутор у Илима. Там зимовье. Посидел в нем, отдышался. Вышел на берег. День солнечный, теплый, а у меня несчастье. Потом вижу, идут ребята. Оказалось, старшеклассники из нашей школы. Один из них был мне знаком, сейчас не помню его имени.
Рассказал им про свое горе. Тот, которого я знал, пригласил к себе домой. Его родители меня помыли, накормили и уложили спать. А утром посоветовали больше не скрываться и вернуться домой. Убеждали: твоя мать наверняка, переживает, ищет. Решил: будь что будет, пойду домой. Иду, дорога дальняя, до Погодаевой семь километров. А подошел к околице, вижу, бегут в мою сторону взрослые парни; ни слова не говоря, сгребают меня в охапку и тащут в наш дом. Оказалось, искали они меня, мать подняла на ноги сельсовет, милицию, сама все окрестности обежала.
После праздников меня вызвали не пионерское собрание. Мне, поджигателю, надо было отчитаться, разъяснить, как все случилось. Но постоять за себя я не смог. Язык к гортани словно прилип. Стоял перед всеми молча. Одна вожатая распиналась, словно сама все это видела. Клеймила мой проступок самыми уничтожающими словами. Володька Петухов оценил по достоинству мой поступок, спасший ему жизнь, и пришел ко мне на помощь. Он показал всем свои руки и сказал:
– Цыпушки хотел вывести. Если бы не Мишка, сгорел бы я. Наказывайте нас вместе.
Смерть Сталина

Начало марта 1953 года я запомнил в мельчайших подробностях. И не потому, что это было время извечной битвы зимы с весной, когда зима обреченно пыталась помешать идущему весеннему теплу, прибегая к коварным ночным заморозкам, а потому, что это был месяц самых сильных переживаний тогдашней моей маленькой жизни. Через несколько недель мне исполнится семь лет. Я еще не школьник. Сделаю свои дела по хозяйству, которые поручила мама: покормлю собаку, поросенка, корову, принесу воду с реки – и быстро забираюсь на свою любимую печку, где, свернувшись калачиком, блаженно отогреваюсь и жду, что скажут сегодня сестренки, Мила и Капа.
Они приходили из школы и читали мне и маме записанные на уроках сводки Совинформбюро о состоянии здоровья нашего вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Сводки не радовали. Мама, выслушав, тяжело вздыхала и, крестясь, тихо говорила:
– Господи, как жить-то будем?
Мы тоже молчали, никто из нас ничего не понимал, тем более мы вообще не знали, что такое: «Как жить?» Жить, как все живут, – все очень просто. Но мамина тревога передавалась и нам, и нас охватывал страх от следующего вопроса: «Неужели умрет?»
Это было, действительно, всенародное горе. Люди верили Сталину, как родному отцу. Верили искренне. Никто никогда ни в чем Сталина не винил, мы жили с ним одной судьбой. Смерть его была ударом для всех. В деревне я не слышал ни от кого плохих слов о Сталине. Молились – только бы выжил. День ото дня сестры приносили новости о состоянии любимого вождя, одна другой хуже. А 5 марта вернулись из школы заплаканные – умер.
Ужас охватил нашу семью.
И мы с мамой плакали. Потом оделись и отправились через реку в Нижне-Илимск. Среди людей горе пережить легче. У райкома партии народу видимо-невидимо. И первый секретарь, и еще кто-то из начальства, не скрываясь, плачут навзрыд. Кто-то сказал: «Хуже войны». Мне запомнилось, что вдруг наступила тишина. И люди вдруг перестали плакать. Почему? Или уже все слезы выплакали? Только слышно было, как гудят провода да постукивают на пронизывающем ветру распахнутые форточки. Это была минута молчания.
Больше никогда в жизни я не видел, чтобы люди так горевали о руководителе своей страны. Это сейчас нас научили относиться к власти равнодушно. Что, мол, она такое? Организация по решению проблем нашего жизнеустройства, временно возглавляемая выбранным человеком. А тогда еще было присуще людям отношение к власти как к дару Божьему. За руководителем страны люди видели Божье помышление, поэтому и все дела его принимали как должное. Да и как иначе, если Сталин был победителем фашизма, спасителем государства и всех нас, так горестно сейчас его оплакивающих. Значение его подвига трудно переоценить даже сегодня. Не сплошным концлагерем, как мечтали фашистские бонзы, стала моя Родина, а хоть и не богатой, но независимой страной. Без Божьей помощи такие дела не вершатся. И люди абсолютно доверяли своему вождю. И были уверены, что он один такой. Лучше него не будет.
Для всей нашей семьи и, наверное, для большинства моих земляков кончина Сталина была концом света, крушением всех надежд. Я это видел и даже тогда понимал, что горе было искренним. Здесь не было фальши, детей не обманешь. Мне было семь лет, и я, может, единственный раз в жизни увидел, как по-настоящему горюют о безвозвратной потере любящие люди.
Сенокос

Настоящее лето
В последние дни июня, когда устанавливалось цветущее, жужжащее, ягодное, настоящее лето, в деревне Погодаева все приходило в движение. На конном дворе ремонтировали телеги, хомуты и сбруи. Кузница пыхала едким дымом от горна и зловеще шипела, когда металл для закаливания опускали в ледяную воду. Женская половина деревни занималась заготовкой припасов на зиму. Близился сенокос.
В колхозной конторе формировались бригады. Сенокосные угодья в колхозе всегда располагались на одних и тех же делянках. Они назывались Елань, Россоха, Ближняя Тушама, Дальняя Тушама. В каждой бригаде от десяти до пятнадцати человек. Мы, подростки, с нетерпением ждали конца формирования, потому что в бригаду включались и пацаны десяти-двенадцати лет, но не больше двух в каждую. Главная наша задача – подвозка копен и зарода[6]. Для того чтобы лошадка меньше уставала, и нужны были мы, маловесные пацаны. Доставалось нам, правда, не по возрасту. Бывало, задницу до крови стирали, так что к вечеру не могли ходить.
Все мои сенокосные годы меня отправляли на Дальнюю Тушаму. Память бережно сохранила это благодатное время. Зимовье срублено под пологом густо переплетенных лап старых елей. От избушки до речки ярким желтком разливалась полянка, вокруг нее стояли пестренькие, как курочки рябы, молодые березки. Если от речки дул ветерок, то тоненькие их листья вздыбливались, как птичьи перышки. Тушама в тех местах полноводна, не Илим, конечно, но и не игрушечный ручеек. На ней, вблизи зимовья, был даже омут, правда, не страшный, и все в нем купались, без всякой опаски. А потом на берегу сочиняли сказки про водяных чудовищ и русалок.
Безграничная, подпирающая небеса тайга дарила ощущение величавой мощи и неизбывной свободы. А в деревне, которую обнимал такой же вековой лес, этого ощущения не было. Наверное, потому, что Тушама с ее таинственными омутами и лихими перекатами, с заливными лугами, напоенными сладкими соками трав, открывала нам что-то неизвестное, пугающе взрослое, заставляющее задумываться о будущем. Пенье птиц, кукование кукушки, барабанная дробь дятла, шелест листьев и скрип деревьев вызывали в душе чувство восторга и любви ко всему окружающему миру.
Косить ребятне доставалось редко. К тому же основной укос делали косилками на конной тяге. Вручную докашивали немного, в неудобных местах. Там росла трава, иван-да-марья, лесной колокольчик, горошек и жесткие злаковые, скосить которые можно было только хорошо отбитой и заточенной косой. Да и то по росе.
Целый месяц косили, готовили пищу, ездили к роднику за водой, возили копны к зародам. А вечерами вместе со старшими сидели у костра, не отрывая глаз от завораживающего, верткого, все время меняющегося в своих очертаниях пламени, слушали рассказы взрослых и тихий говор тайги, которые постепенно сливались в единый сложный звук. И сквозь обманчиво сладкий дым виделось каждому из нас свое взрослое счастливое будущее.
Седло
Бригадир попросил нас с Гошкой, моим сверстником и приятелем, смотаться к зимовью, до которого рукой подать, не больше километра. Бригада начала укладывать первый зарод с сеном, и по этому случаю всех ожидал праздничный ужин.
Поехали мы на одном коне, и по договоренности с Гошкой я получил право ехать к зимовью в седле. Добравшись до цели, мы ослабили подпруги, кинули коню сена, быстро выполнили бригадирское задание и отправились в обратный путь. Как и договорились, теперь Гошка гордо восседал в седле, а я – на холке коня. Но подпругу не проверили и не подтянули. Забыли.
Дорога по покосам петляет, повторяя зигзаги речки, а может, речка петляет, подражая ходу дороги. Добрались до первого брода спокойно, но конь, переходя речку, вдруг решил идти по своему разумению и рванулся на глубину. То ли пить ему захотелось, то ли гнус одолел. Конь не человек, ему не посоветуешь. Надо было бы дать ему волю, а мы по своей глупости попытались управлять конем, начали дергать поводья, пинать в бока пятками. Гошка так постарался в своих жокейских выкрутасах, что седло сползло под брюхо, а вместе с ним и всадник. Гляжу, только пятки Гошкины торчат из воды да запутавшиеся в сбруе посиневшие голени. А голова – в воде. Что есть мочи кричу на коня, колочу его ногами, руками. Скотина, она и есть скотина, сделав свое дело, конь не торопясь побрел к берегу. Спрыгнул я на мелководье, Гошка под брюхом лошади мешком висит, уже и держаться перестал. Я ноги его из стремян освободил, вытащил друга на берег, руки трясутся, только и твержу:
– Гошка, ты дыши давай, слышишь?
Гошка молчал.
– Чего ты молчишь? – кричу ему.
Мгновенно вспоминаю Ивана Петухова, который учил своего брата и меня, что делать, если наглотаемся воды при купании:
– Пальцы в рот, чтоб рвать тянуло, да поглубже суй, не бойся…
Эта наука мне сейчас пригодилась. Приоткрыв Гошкин рот, одной рукой лезу к нему в горло, дергаю за язык, другой давлю на живот. Неожиданно изо рта вместе с водой полилась рвота. Через мгновение Гошка закашлял, тело его вздрогнуло и затряслось. Еще несколько раз я пытался залезть рукой в рот, но Гошка инстинктивно отбрасывал мою руку.
Конь стоял рядом, удивленно посматривая на нас, глубоко вздыхал, и седло, висевшее у него на брюхе, словно оживало, раскачиваясь в такт дыхания коня.
Это был первый случай в моей жизни, когда я спасал человека, находившегося на грани жизни и смерти. Я осознал это значительно позже, когда ловил на себе внимательные взгляды Гошки, который, видимо, хорошо понимал, чем могла закончиться эта история.
Щука
Речка Тушама – коварная речка. Местами в низинах она захватывала своими водами большие плесы и с этой «добычей» становилась широкой, плавной. Иногда она сужалась между крутых берегов и, ускоряясь, неожиданно быстро пролетала десятки метров, казалось, соревнуясь сама с собой.
Как и всякая таежная речка, она была полна рыбы.
Однажды, стоя на берегу Тушамы, я неожиданно увидел огромную щуку: сама в воде, а плавник на поверхности трепещет, как лепесток диковинного цветка. Видимо, вышла матерая рыбина из омута понежиться на солнышке, спину погреть. Потихоньку, задним ходом, боясь издать шум, я отошел от берега и побежал на покос к мужикам.
– Дядя Вася, – задыхаясь, кричу бригадиру, – щука на мелководье стоит, может, чем зацепить ее?
Бригадир долго не раздумывал, схватил первое, что под руку попало, – вилы, но не с прямыми зубьями, а чуть загнутыми.
Подкрался к самой кромке воды и, когда до щуки было рукой подать, резко выпрямился и метнул вилы. Однако не рассчитал – ушел под воду вместе со щукой, и на поверхности остались только его черные, заскорузлые пятки.
Кто кого перехитрил, сказать трудно. Скорее всего, дядя Вася сам себя перехитрил. Щука грелась на перепаде глубины и мелководья, а вода прозрачная, искривляет пространство, так что просчитаться легко. Да и вилы бригадир метнул, не учтя их кривизны, направил туда, где начиналась глубина.
А поскольку замах был от души, бросок силен, вот вилы и утащили за собой дядю Васю, намертво вцепившегося в них. Это был фантастический полет, восхитивший и развеселивший всех, кто видел это редкое и необыкновенное зрелище. Через мгновение бригадир поднялся из воды и обрушил на меня всю силу и мощь русского языка в его непререкаемой непечатной выразительности.
Но я не обиделся.