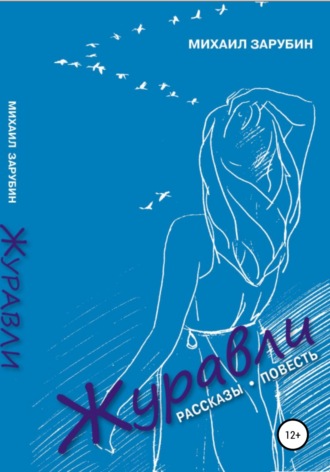
Михаил Константинович Зарубин
Журавли. Рассказы
Опиум для народа

В нашей бедной избе, между двух окон, прямо над столом, на небольшой самодельной полочке стояла икона Богородицы. Жестяная, без оклада. Мама называла это место красным углом, держала в чистоте. По большим православным праздникам маленький домашний алтарь убирался узким длинным полотенцем, украшенным яркой густой вышивкой. Кроме иконы на этой полочке хранились документы. В Вербное воскресенье ко всей этой красоте добавлялась веточка вербы, а на Пасху – крашеное яйцо. Божница, говорила мама, должна быть видна сразу при входе в избу, чтобы входящий мог первым делом поклониться и перекреститься на Божий образ.
Я был самый младший в нашей семье Карнауховых, в школе учился хорошо, с гордостью носил пионерский галстук и за время учебы основательно подвергался советской атеистической пропаганде, хотя мама наша была верующей. Я убеждал ее, что религия – «опиум для народа». Твердил, что Бога нет. Мать улыбалась, слушая это богохульство, но не спорила, не пыталась переубедить меня, а по-простому рассказывала о своей собственной вере, как она ее понимает.
– Мишенька, родной мой, ну что я могу поделать? Да, я верю в Бога, меня так воспитали. Для меня Бог – это добро, свет, помощь, сострадание и долгая-долгая жизнь, которая не заканчивается здесь, на земле. Потому что у каждого есть душа, и она бессмертна…
Я не знал, как отвратить свою «темную» мать от Бога. Так мне хотелось, чтобы она была похожа на моих современных учительниц-атеисток. И вот однажды, придя из школы, я взял из красного угла иконку и положил ее под коврик при входе в избу, о который все вытирают ноги.
Мама, войдя в дом, по привычке вытерла ноги и прошла в комнату. Я ждал этого шага матери, подбежал к ней и злорадно закричал:
– Ты вытерла ноги об икону! Ну, и почему твой Бог молчит?
– Не пойму тебя, сынок, о чем ты?
– А вот о чем. – Я вытащил икону из-под коврика и показал матери.
Мать оттолкнула меня, хотела ударить, но сдержалась. Бережно взяла в руки икону, вытерла ее рукавом, поцеловала и перекрестилась со словами:
– Прости, Царица Небесная! – Она как-то отрешенно присела на лавку. Долго молчала.
Я испугался, прижался к матери.
– Экий ты герой, – в ответ на мою ласку горестно сказала она. С трудом поднялась, поставила икону на полочку. Потом встала на колени, прошептала молитву и стала отбивать земные поклоны, касаясь лбом самого пола. Окончив этот не очень понятный мне ритуал, она будто повеселела.
– Миша, никогда больше так не делай. Бог все видит, Он может за богохульство и наказать.
– Ты говоришь неправду. Как Бог может наказать?
Мама села на лавку, дрожащими руками сняла с головы платок, ее густые русые волосы волнами растеклись по плечам.
– Как может наказать? Да по-разному. Вот будешь купаться в реке, вдруг откуда ни возьмись прилетит камушек и ударит тебя по голове. Это не человек камушек кинул, а Господь хочет тебя вразумить.
– Ну, придумаешь ты, мама, – я засмеялся. – Правильно говорит учительница, темная ты женщина.
Мой довод совсем развеселил мать. Она обняла меня, крепко прижала к себе, поцеловала в макушку.
– Не трогай икону, не надо, это святое. Мне трудно объяснить. Ты поймешь, когда подрастешь.
Илим – река коварная, с омутами и отмелями. Но имеет и довольно глубокий для прохождения судов фарватер. Поэтому нашу деревню можно считать даже портовым поселением. Специальных причалов по берегам не было, но некоторые катера и большие лодки подходили, останавливались, бросая якоря. Мальчишки и некоторые отчаянные девчонки в жаркое лето из этой, опасной для купания судоходной реки не вылезали. Кто-то плескался у берега, а кому-то и Илим перемахнуть не составляло труда.
Ребята постарше любили устраивать представления. Они брали лодку, уплывали на середину реки и там показывали чудеса водной акробатики. На них собиралась посмотреть вся деревня. Это был местный цирк. И нам хотелось походить на старших.
И вот Володька Анисимов собрал команду неудержимо отчаянных, чтобы купаться на самой стремнине. Я, конечно, напросился к ним. Желающих покрасоваться было много, но Володька взял только шестерых. Порезвились на славу, все получилось здорово, и прыжки, и плавание.
Я так устал, что прыгать уже не мог. Сказал Вовке, что пора заканчивать цирк.
– А что, тяжко?
– Руки устали.
– Тренироваться надо.
Я промолчал, зная, что спорить с Вовкой бесполезно.
– Ну, давайте по последнему разу, и домой.
Прыгнули по три человека с каждой стороны, кто-то вниз по течению, кто-то вверх. А до лодки доплыли пятеро, забрались в дощанку, огляделись и поняли – одного не хватает. Васьки Карнаухова. У самих сил нырять уже не осталось, а спасать товарища – собственной смерти искать. Стали кричать взрослых. Пока из деревни прибежали мужики, пока нырять стали, время упустили. К вечеру течением прибило Ваську к берегу. Нашли его у отвесного берега Красного Яра. Расталкивая любопытных, к нему бежала рыдающая мать…
Поздним вечером умытый и одетый во все чистое я лежал в своей избе на скрипучей железной кровати. Внимательно и милосердно, как мне казалось, смотрела на меня с иконы Богородица. Мать сидела рядом, гладила меня по голове.
– Мама, ты ведь была права.
– В чем права?
– В том, что Господь меня должен был наказать за то, что я сделал с иконой.
– Почему ты так решил? Я о Божьем наказании говорила так, для острастки, – сказала мать.
– Нет, мама, просто Бог ошибся и Ваську наказал, фамилия-то у него такая же, как у меня.
– Родной ты мой, спи. Господь сохранит нас. Ведь я прошу Господа об этом, а он слышит мои просьбы…
– Мама, ведь я виноват.
– Спи. – Она прикрыла своей ладошкой мой рот.
Дело совести

Начало октября было по-летнему умиротворенным, солнечным и теплым. В дневные часы солнце изливало на мир свои ослепительные щедроты так активно, что казалось, перепутало время года, и лето, поутихнув в дождливом сентябре, в октябре вновь надумало вернуться. На скошенных полях, среди колкой стерни показалась молодая трава, а луговина вдоль Илима сплошь зазеленела. И колхозные, и деревенские коровы с утра гуляли на вольных выпасах, и только к вечеру их загоняли по домам и на скотный двор для вечерней дойки.
Деревенские старожилы не могли припомнить на своем веку подобной погоды и спорили меж собой о временах, когда еще случалась такая благодать.
Мишка, прибежавший из школы, бросил курам зерна, дал корма изголодавшейся свинье, которая бурно напоминала о себе, визжа и ломая дверь. Выполнив свои постоянные обязанности и выпив залпом кружку молока, Мишка забрался на сеновал и углубился в книгу о захватывающих приключениях двух капитанов.
Но какое бы ни было молодящееся солнце, непреложные законы мира не позволяли ему подниматься так же высоко, как летом, да и путь его по небосводу был ниже и короче июньского пути. Как бы светило ни хорохорилось, лето состарилось и ослабело. Уже в шестом часу вечера солнце целиком закатывалось за огромную скалу Красного Яра, и только его лучи, словно отблески золотой короны невидимого властелина мира, еще какое-то время стояли на страже света и не пускали на небосвод ночь.
В один из таких вечеров мать пришла с работы позднее обычного. Была она дояркой на колхозной ферме, а там работали по расписанию, доили буренок в определенные часы и кормили тоже.
– Мама, что-то случилось? – спросил сын, поджидая ее у ворот.
– Да ничего не случилось, Миша.
– А чего так поздно? Пора уже Зорьку доить, она в хлеву изревелась.
– Сейчас, сейчас, подою нашу кормилицу.
Анна быстро забежала в сени, скинула кофту, надела сапоги и, схватив подойник, поспешила в хлев.
– Мама! – закричал Мишка. – Ты чего такая забывчивая? – и понес следом за ней ведерко с теплой водой и белое вафельное полотенце.
– Мишенька, родной мой, спасибо. Что бы я без тебя делала? – певуче и с незнакомой Мишке торжествующей интонацией приговаривала Анна, омывая вымя коровы и протирая его сухим полотенцем. И вот наконец грянул радостный, ни с чем не сравнимый звук: нетерпеливые струи теплого молока звонко зазвенели, ударяясь о дно подойника. По мере того как ведро наполнялось животворной влагой, звук мягчел, струи ударяли о стенки подойника нежнее и тише. Мишка дал Зорьке корочку черного хлеба. Кормилица съела его с удовольствием, облизав даже Мишкины пальцы. Мама царственной своей походкой бережно понесла полное ведро молока в дом. В кухне Мишка с удовольствием выпил еще одну кружку парного молока, сладко причмокнув, и отер губы ладонью.
– Еще? – спросила мама, разливая молоко по банкам. Они останутся до утра нетронутыми, а утром можно будет собрать сливки.
– Хватит, хорошего помаленьку, – по-хозяйски рачительно, заботясь о достатке семьи, солидно ответил Мишка.
Уже вечером, сидя за столом у керосиновой лампы, он задал матери прежний вопрос.
– Ты где была-то?
– Ой, не спрашивай, Мишенька, где я была. – Мать заулыбалась и стеснительно отмахнулась рукой. – В правление колхоза меня вызвали.
– А что тут особенного? Мы с пацанами хоть и не колхозники, и то раз в месяц там бываем.
– Так меня вызвал секретарь парткома.
– Зачем ты ему понадобилась?
– Не догадываешься?
– Я даже не знаю, как его звать. Он недавно приехал к нам, из города. И семью тоже привез.
– Партия приказала, вот и приехал.
– Так зачем он тебя вызывал?
– Он сделал мне предложение.
Мишка вспыхнул, надулся и отвернулся к окну. Мать рассмеялась, прижала к себе сына и, улыбаясь, проговорила:
– Предложил мне вступить в партию.
– Да ну! А ты не шутишь?
– Какие уж тут шутки! Только я сказала, что мне надо хорошо подумать.
– А чего тут думать?
– Есть чего, Миша.
– Ну, не знаю, мама. Это ведь такое почетное дело – быть коммунистом.
– Для начальников быть коммунистом – большое дело, а для доярки все едино. Корова ведь не спрашивает, кто ее доит.
– Мама, ты неправильно рассуждаешь.
– Так и рассуждаю. Ты посмотри, какая у меня грамотность? Проучилась один год в церковно-приходском училище. И что я, малообразованная, буду делать в партии? Слушать да головой кивать? И время потребуется, ты меня совсем не увидишь. Партийные собрания каждую неделю проходят: все что-то решают.
– Решают, мама, как социализм на советской земле построить.
– Эка ты, Миша, хватил. Разве разговорами такое дело сотворишь? Нужно работать.
– Коммунисты все работают, они в свои ряды берут самых достойных.
– Может, оно и так, жить стали получше, но все равно – до социализма далеко.
– Вот вступишь в партию, и мы побогаче жить станем. Партийные тебе помогать будут, трудодни дополнительные выписывать.
– Да разве для этого в партию-то поступают? Ничего-то ты у меня еще не понимаешь в жизни, сынок.
Мать посмотрела на бумажную иконку, что стояла на полочке в простенке над столом. Украшенная белым расшитым полотенцем, она мерцала в лучах заходящего солнца живым светом и, казалось, дышала. Анна склонила пред ликом Спасителя голову, прошептала молитву и несколько раз осенила себя крестным знамением. Мишка неодобрительно заметил:
– Мама, ты же в Бога веришь! Партийным нельзя быть верующим!
– Конечно, сынок, но мне с этой верой легче жить.
– У нас в школе, когда в пионеры принимают, спрашивают о религии.
– Ну и что?
– Как ну и что? Верующих не принимают.
– Мы ведь по церквам не ходим, в душе своей Бога славим. Какие же мы верующие? Мы люди невоцерковленные, но любящие Господа всей душой.
– Мама, все, кто крестятся, – верующие?
Мать улыбнулась сыну, ласково, поцеловала и завершила разговор словами:
– Не будем рассуждать, Миша, кто верующий, а кто нет. Это дело совести. Посоветуюсь я с Василием Григорьевичем, бригадиром. Он человек умный, с войны пришел при орденах, все тело в осколках. На фронте в партию вступил.
Несколько дней подряд Мишка приставал к матери с вопросом:
– Ты с Василием Григорьевичем поговорила?
Анна только пожимала плечами да со вздохом отмахивалась.
– Почему? Что, трудно спросить? – наседал Мишка.
– Не трудно, но самой решиться надо.
– Ну, мама, ты что – боишься?
– Не знаю, Миша, вроде и не боюсь, но в партию вступить – это ведь не на ферму отправиться.
– Мама, я уже в классе всем сказал, что тебя в партию принимают.
– Зачем сказал, похвастаться захотелось? Эх ты – голова садовая.
Наконец, через день, вечером, они пошли к Василию Григорьевичу.
Бригадир, увидев их обоих, догадался о цели визита:
– По лицам вижу, дело серьезное, пошли в избу.
Когда расселись, фронтовик кивнул головой:
– Ну чего, Анна?
– Василий Григорьевич, я о партии спросить хотела.
– А чего о ней спрашивать?
Мишка решил помочь матери.
– Дядя Вася, мама хотела спросить, как в партию вступать.
Бригадир с улыбкой посмотрел на Мишку.
– Как? Да просто, пишут заявление, берут рекомендации и отдают в партком.
Анна набрала воздуха, выдохнула.
– Знаю я об этом, хотела спросить о другом. В Бога я верую, можно ли мне с этим в партию поступать?
Василий Григорьевич задумчиво посмотрел на Анну, встал, подошел к окну, закрыл занавеску. Вернулся и сел напротив Анны.
– А кто о твоей вере знает, Анна?
– Как кто? Я, Мишка, соседка Марья. Иногда на работе, когда что-то не ладится, молитву прочту, крестом осеню себя, и дело идет.
– Да, дела! Когда я предлагал парткому твою кандидатуру, у меня и мысли не было о твоей вере. Какая такая вера? У нас в деревне попа нет, церкви нет, икона стоит в уголку для красоты, что это – разве вера?
– Так это ты меня предложил в партию? – удивилась Анна.
– Я, а ты на кого подумала?
– На секретаря парткома.
– Он со мной посоветовался, кто у нас такой хороший, чтобы партийцем быть, вот я тебя и разрисовал.
– Не надо было, Василий Григорьевич, делать этого.
– Да, дела, Анна. А может, просто не говорить про веру, а?
– Кому не говорить?
– На парткоме, а потом на комиссии в райкоме.
– Соврать, значит?
– Зачем врать, просто промолчать.
– А икона? Она же у меня с детства, как себя помню, так перед ней и молюсь, и исповедуюсь.
– Убери.
– Бог с тобой, Василий Григорьевич, а совесть-то я куда уберу? Что ж ты мне предлагаешь, одну веру на другую поменять?
– Молись про себя, кто тебе мешает?
– Про себя не молятся.
– Ну, тогда в партию дорога тебе заказана. Партии атеисты нужны. В партии с религией борются, опиум она для народа.
– Это что такое?
– Отрава, значит.
– Так бы и сказал, а то заумные слова высказываешь.
Беседа прервалась. Неловкость ощущалась в затянувшемся молчании. Анна поднялась первой.
– Спасибо, Василий Григорьевич, за разъяснения.
– Вижу, не устроили тебя мои слова.
– Ну почему же, многое прояснилось.
– Хорошо, что прояснилось, Анна. Помни, ты партии нужна, но без веры в Бога! – сурово подытожил Василий Григорьевич.
По дороге домой Анна, мысленно продолжая разговор с бригадиром, произнесла вслух:
– Надо же: молись молча, икону убери. А как же тогда Господь услышит мои молитвы? А для чего врать? Кому от этого хорошо станет? Зачем мне другие богатства-привилегии, если духовными сокровищами за них расплатиться принуждают?
Мишка не пытался спорить. Он знал: лишить мать веры невозможно. Полученные им знания в школе разуверили его в религии, но как переубедить маму, он не знал. Все его разговоры с ней не приводили ни к чему. Она улыбалась сыну, говорила, какой он стал большой и умный, но в споры не вступала.
Партийцев в деревне было пять человек, все мужчины, а тут предлагают его матери вступить! Это же честь какая! А она?..
Дома Анна подошла к иконе, перекрестилась, приложила к сердцу, потом бережно протерла ее белоснежной тряпочкой, подвернула края расшитого полотенца, тяжело вздохнула и села на скамейку у окна.
– Нет, Мишка, я не буду ни от кого таиться, верю, значит, верю, чего мне лукавить? Чего мне перед Богом изворачиваться? Он, в отличие от этих, – она кивнула головой в окно, – все видит.
– Мама, ну сколько говорить тебе, что это все придумки! Ну как можно видеть каждого человека, да еще знать, что он делает и думает?
– Бог может, Миша, и видеть, и думы человеческие знать.
Они оба замолчали, каждый думал о своей правоте.
Прошло недели две. Однажды поздним зимним вечером, делая домашнее задание и дожидаясь маму с работы, Мишка уснул за столом.
Сон унес его на вершину Красного Яра. Мишка со стороны смотрел на себя и видел, как он идет не к обрыву, откуда видно родную деревню, Илим, речку Тушаму, а в противоположную сторону. Тропа вела мальчика в глубину леса и вывела к круглому озеру.
– Вот те на, откуда же здесь озеро? Сколько раз бывал, а не видел его никогда.
Озеро было небольшое, метров сорок в диаметре, идеально круглое, как зрачок. Казалось, кто-то циркулем прочертил его берега. Вода в нем небесно-голубая, прозрачная: то ли дно просвечивает, то ли небо отражается. Красота озера завораживала. Что же питает это озеро? Может быть, подземные источники? И тут Мишка увидел, как в одном месте неразрывным искристым потоком падала в озеро зеркальная струя. У самого обрыва стояла церковь. Тишина дремучего леса была такая, что позволяла слышать шум крови в ушах, а стук Мишкиного сердца, казалось, разносился далеко по округе.
Мишка вошел в храм, в нем шла служба. К своему удивлению он увидел маму и всех жителей деревни. В первом ряду смиренно стоял бригадир Василий Григорьевич.
– Мама! – крикнул Мишка.
Мать приложила палец к губам, взяла сына за руку и поставила рядом с собой.
– Мама, мне нельзя молиться, я пионер, – недовольно прошептал мальчик.
– Постой рядом молча.
Мишка угомонился, ощутив необычность происходящего, послушно встал рядом с матерью. Мерцающие свечи, зыбкое парение неведомого ему пахучего вещества потрясли его. Казалось, из-под купола храма струилось прекрасное песнопение. Все, находящиеся в храме, уверенно вторили непонятным словам. Мишка запомнил только многократно повторяемое «Господи, помилуй».
Богослужение закончилось, умиротворенные и вдохновленные люди стали выходить из храма. Анна взяла сына за руку и подошла к священнику.
– Отец Матфей, это мой сын Михаил. Прошу вас, благословите его.
– Мама, ну что ты делаешь – зашипел Мишка, выкручивая руку, – я же пионер.
Священник ласково посмотрел на Мишку глазами цвета того необыкновенного озера и добродушно сказал:
– Пионер, говоришь? Так что же в этом плохого? И пионера благословить можно. И пионер Божье дело в этом мире делает – доброе дело.
– Бога нет, так нас учат в школе, – смущенно возразил Мишка.
Священник улыбнулся и, обняв юного строптивца за плечи, ответил:
– Ты попроси сейчас о чем-нибудь Господа, и все сбудется.
Мишка с недоумением поглядел на мать, на священника.
– Это все сказки, – пробурчал он. – Никто не знает, что будет дальше…
– Никто, кроме Бога, – твердо сказал священник, словно поставил окончательную точку в разговоре. – И Он знает, что, когда ты вырастешь, вспомнишь этот день. Знает, что и ты сам вступишь в партию большевиков. Побываешь в Москве, в Кремле. Знаменитым человеком станешь по молитвам твоей милосердной матери. Запомни, Господь обо всем знает. И о богатствах твоих, и о бедах, и посылает помощь тебе по необходимости. И вразумление, когда надо.
Мишка схватил материнскую руку и прижался к ней…
– Успокойся, сынок. Успокойся…
Он проснулся. Рядом была мама, которая гладила его по голове своей ладонью, похожей на мягкое, светоносное крыло неведомой птицы.
* * *
В партию Анна не вступила. Мишка рос, мужал. Он был целеустремленным, талантливым. Многого добился сам, но был твердо убежден, что на его жизненном пути ему все время помогает кто-то незримый, оберегает, направляет и вразумляет…
В тридцать лет и три года Михаила приняли в члены КПСС. В сорок три он был избран делегатом съезда коммунистической партии, руководившей огромной страной. Об этом событии он сообщил в деревню телеграммой. Подписывая обратный адрес, с гордостью поставил: Москва. Кремль.
Михаил шел по территории Кремля с таким воодушевлением, какого не испытывал ни разу в жизни. Ему радостно было от того, что он делает нужное дело, что оно оценено государством. Но более всего ему радостно было ощущать себя в окружении древних русских святынь. На него смотрели церкви и башни, которые видели и русских венценосцев, и предводителей народных бунтов, и молящийся Богу народ Руси православной. Здесь, в Кремле, он ощутил неразрывную связь с русскими людьми. История виделась ему не отвлеченным школьным текстом, а живым монолитным потоком, огромным крестным ходом, в котором и ему отведено место. А рядом с ним была его мать Анна. Он не мог разглядеть ее лицо, но отчетливо слышал голос, напоминавший ему великую человеческую мудрость: нет богатств земных, тленных, которые превысили бы нетленные сокровища духа и веры…
Из каких-то неведомых закоулков памяти явились вдруг строки из любимого стихотворения петербургского поэта Бориса Орлова:
Жизнь идет от порога к порогу,
Находя утешенье в ходьбе.
Мама искренне молится Богу
Перед иконою в русской избе.
Утром дерево детского роста
Стелет ковриком тень на крыльцо.
Все таинственно, мудро и просто.
У всего есть душа и лицо…
Вот она, тайна бытия России, тайна ее непобедимости и достоинства. В маленьких деревенских избах, в величественных государевых соборах, пред бумажными образками и пред храмовыми святыми в золотых окладах идет непрестанная православная молитва. И покуда не иссякнет она, не иссякнет и русский род.







