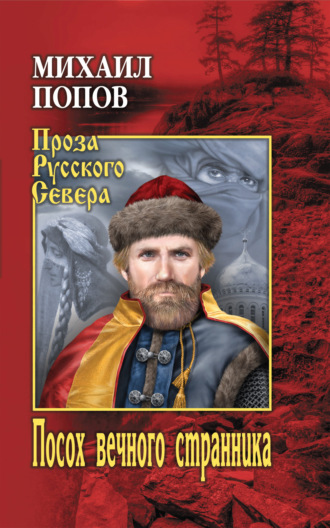
Михаил Константинович Попов
Посох вечного странника
3
Новый пояс он носил только по праздникам – на Песах, на Пурим… А в будни опоясывался старым, хотя он уже поизносился и стал коротковат для его раздавшейся телесности. В этом поясе была заключена память, связывавшая его с отрочеством, юностью, с родителями, с домом. А ещё этот пояс не давал забыть о чужой зависимости, в которую попал его народ. И свидетельством унижения и обиды была зашитая в поясе монета – обол, который швырнул ему в детстве пришелец, топтавший своими стопами его порабощённую родину.
В поясе были зашиты две монеты. Одну, серебряный сестерций, он вынужден был выпороть, когда пришёл «крайний случай». А с оболом не расставался, и чем дальше, тем важнее становилась для него эта память.
На предстоящую встречу он оделся не броско, надев неприметный кетонет, и опоясался именно старым поясом. Это, как со временем стало представляться, был не только памятный знак, но и его оберег, его тайный талисман. Словно горькая память, воплощённая в зашитом оболе, отводила от него напасти и беды и давала свежие силы.
Прежде чем отправиться на оговорённую встречу, он наведался в свою конторку. Здесь у него была меняльная лавочка и стол для написания и совершения купчих. Располагалась конторка в ромейской части Кесарии. Горожане здесь были редкими посетителями. Зато захаживали легионеры, которым предстоял отпуск в метрополию, а также чужеземные купцы, которые справлялись о денежных курсах и запасались здесь разменной монетой.
Почему именно это поприще досталось ему в удел? Так получилось, уклончиво отвечал он, когда спрашивали. Точно сами не могли догадаться?! Грамотный человек либо считает, либо пишет – одно из двух. А то, что он свой выбор до конца не сделал, говорит лишь об особенностях его характера. Эту реплику он ронял с непроницаемым видом. Кто-то в ответ понимающе улыбался, кто-то озадаченно молчал. Но ни те, ни другие не догадывались об истинных причинах…
На столе лежали два папируса. Слева – график отпусков старших армейских чинов, справа – сводка ожидаемых торговых судов из египетской Александрии и греческого Пирея. Он особо выделил несколько имён на левом свитке и несколько наименований судов на правом. Эти пометки предназначались для подменщика, который будет заниматься обменом и сделками в его отсутствие. Он уже не сомневался, что предстоит очередная командировка. Коли вызывают на встречу, стало быть, есть задание. И, может, надолго.
Корпус, в котором была назначена встреча, находился в тех же армейских рядах. Вход с улицы был отделён железной оградой, возле которой на часах стояли два легионера. Этот путь ему был заказан. Он обошёл здание кругом, осмотрелся, нырнул в густую зелень и по узенькой тропке между тесно посаженными оливами достиг потаённой двери. Снаружи никого не было. Стража находилась внутри. Он показал условный знак. Один из охранников приказал следовать за собой.
В палате без дверей, отделённой только аркой, находился военный. Он сидел за круглым столом и что-то писал. Шлем его лежал слева, меч справа.
– Не признал? – раздался голос. Это был Кэмиллус, его давний покровитель. Он впервые видел его в военном облачении, потому и замешкался. – Я сам себя не узнаю, – Кэмиллус показал на отражение и тут же справился: – Ну и как?
Военная амуниция в отличие от просторных хитонов делала его стройным и собранным. Чувствовалось, эта разница ему самому нравится. Что тут было говорить? В знак одобрения пришедший поднял по-ромейски правую руку.
– Заканчиваю доклад, – объяснил Кэмиллус, он поднял стило – писчую тростину, огладил другой рукой свою короткую чёлку и показал на столик с водой и фруктами, дескать, проходи-садись. Глаза на свету у него были голубые-голубые.
Глядя на ромея, склонившегося над докладом, пришедший заключил, что тот похож на какого-то императора, изображённого на монетах. Тут же подумал о себе: а он, интересно, каким меня видит? Представил себя со стороны. Кудрявая голова, такая же чёрная – только мелкими кольцами – борода, крупный – это в отца – нос. От его детского облика ничего уже не осталось. Да что детского! – Эсфирь, старшая сестра, приехавшая с мужем торговать вином, прошла мимо, пока не окликнул. А ведь минуло всего пять лет… И отец бы, наверное, не узнал. А уж если бы узнал, где он служит, верно, и не признал бы…
Он снова перевёл взгляд на Кэмиллуса. Пять лет минуло с их первой встречи. Случай или провидение, но они оказались в одной житейской связке. Старшего здешней сыскной центурии отозвали в Рим. На его место был поставлен Кэмиллус, которого повысили и в звании: он стал центурионом – сотником. И вот едва ли не первое, что он сделал, заступив на службу, разыскал его, Фаруха. К той поре иудей скорее опять походил на имру – жертвенного барашка, до того обнищал и оголодал. Так тогда и окликнул его Кэмиллус, назвав Имрой. Вырвалось, видимо, помимо воли, такой он был худой, чумазый и жалкий. Не лучше выглядела и его сестра Руфь. Ещё бы день-другой, и наступил край. И тогда сон в масличной роще мог обернуться явью.
Кэмиллус накормил их, пристроил под крышу, приодел. Руфь от свалившегося на них счастья плакала. Да и у него, Имры, тогда глаза были на мокром месте. Он был готов на всё, что скажет и прикажет покровитель.
Всё сложилось как-то само собой. Им, ромею и иудею, не понадобилось долго обсуждать прошедшее и предстоящее, тем более подписывать какие-то обязательства. В этом не было нужды. При всей кажущейся несовместимости их интересов они уже без слов понимали друг друга и дорожили этим пониманием. И тайная служба его, иудея, стала естественным продолжением этого союза.
Кэмиллус был ведущим в этом союзе. Он, Имра, во всём следовал ему, ни разу с тех пор не пожалев. И дом, в котором они поселились с сестрой на казённый кошт, и эта меняльная контора, созданная для прикрытия, – это всё воплощения Кэмиллуса. И даже потаённое имя – Имра – тоже предложение Кэмиллуса, которое он принял как должное.
– Ну-ка послушай, – Кэмиллус оторвался от доклада. – Я вставил несколько строк о Храме. Как они будут на слух сына храмового чтеца, который тоже был чтецом. – И принялся читать: «Секта фарисеев наиболее многочисленная. Они – первые толкователи иудейского закона. По их представлениям, всё зависит от верховного бога и назначенной им судьбы. И хотя человеку предоставлена свобода выбора, свобода между честью и бесчестьем, вышнее предопределение в этом участвует. Души, по их толкованию, бессмертны. Но только души чистые переселяются по смерти людей в другие тела, а души нечестивцев обречены на вечные муки».
Тут сотник поднял голову, ожидая оценки. Но Имра, уткнув взгляд в свою ладонь, молчал. Тогда сотник продолжил:
– А вот о саддукеях, второй секте: «Эти совершенно отрицают судьбу и утверждают, что бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния. Выбор между добром и злом доброволен, и каждый человек по своему собственному разумению переходит на ту или иную сторону. Точно так же они отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние. Если оценивать их влияние, то оно невелико, потому что это учение распространено среди немногих лиц, притом принадлежащих только к богатым и знатным родам».
Сотник Кэмиллус снова поднял голову. Имра замешкался. Пауза затянулась. И тогда, не зная, что сказать, Имра поднял раскрытую ладонь. Ромей, конечно, отметил, что на сей раз тот поднял не правую, а левую руку, которую до того так внимательно рассматривал, но поправлять не стал, почувствовав его состояние. Они не были друзьями. Они не могли быть единомышленниками. Но они были больше чем властитель и подчинённый, и уж подавно больше чем поработитель и раб, как относились к иудеям большинство завоевателей.
Пришёл час отправляться на доклад. В паланкин – ромей называл его лектикой – они сели внутри здания и плотно закрыли за собой створки, даже носильщики, нубийские рабы, не видели, кого несут. Путь продолжался довольно долго. Понять, куда они направляются, Имра не мог, а Кэмиллус помалкивал. Вышли они из паланкина уже внутри другого здания. Это был круглый зал, отделанный декоративными тонкой резьбы розетками, и с высоким потолком. Рабы уже исчезли, унеся носилки. Ромей показал ему на мягкую скамью, стоящую в центре зала, и велел ждать. А сам по округлой мраморной лестнице поднялся наверх.
И тотчас с верхотуры раздался лающий голос. Таким погоняют мулов или необъезженных лошадей. Короткие, как удары меча, фразы. Негромкие ответы. И снова эти свирепые, как армейские команды, реплики. Не тот ли это меднолицый, который хлестал его бамбуковой тростью? По голосу похож. Или они все такие, эти легаты и трибуны? Другой речи у солдафонов нет и быть не может? Даже с детьми…
За годы потаённой службы у Имры обострился слух. Он слышал шевеление крота, если в потёмках был вынужден лежать на земле. Он слышал шелест древоточца, если прятался за деревом. А уж людские голоса доносились до него беспрепятственно, если они не были скрыты толстыми каменными стенами.
Здесь голосов особенно не скрывали или не очень плотно прикрыли дверь. Он всё слышал. Единственное, почему было трудно воспринимать речь – она была чересчур громкая. Этого ревущего быка – да на чтение бы кадиша, небось, и в одиночку докричался бы до Сущего, вздохнул Имра и, сложив ладони, тут же покаялся в невольном богохульстве.
Из разговора было понятно, что владелец лающего голоса недоволен действиями сыскной центурии. Слишком много в Иудее хулителей. Им дали невиданные в других римских колониях права, сделали всевозможные уступки и послабления. А им всё мало. Они вольны справлять свои обряды, выбирать городских и сельских старшин, заводить школы, передвигаться в пределах колонии. А они всё недовольны. Увиливают от налогов, не хотят платить армейские подати, то в одном месте, то в другом вспыхивают бунты. Забрали солдаты по овце с семьи для своих нужд – бунт. Увели десяток амфор вина – бунт. Позабавились с совершеннолетней девицей – бунт… А что сыскная центурия? Где здесь упреждающие меры сыскной центурии? Почему она не выявляет потенциальных бунтовщиков, почему не упреждает эти вспышки?
Голос Кэмиллуса был тише, но его ответы слышались лучше. Начальник центурии возражал и для подтверждения зачитывал сводки своего доклада. «Благодаря постоянной розыскной работе пресечены множественные попытки провоза запрещённых товаров – опия и гашиша. За последние пять лет арестованы и наказаны потребители – таковых было восемьдесят человек, у перевозчиков реквизированы в пользу империи суда числом двадцать пять, а сами они – три десятка преступников – отправлены на каторгу». «Эти-то как раз не так опасны, – донеслось в ответ – тон владелец грозного голоса чуть умерил. – Обкурятся – им ни до чего нет дела. Не так ли?!» Это, однако, не сбило с толку сыскного сотника. Он напомнил, что той отравой охмуряют солдат, а это наносит вред боеспособности армии. И тут же продолжил: «Догляд ведётся за всеми синагогами, куда иудеи собираются на службы, – и в небольших селениях, и в Иерусалиме. Доверенные люди есть и в Храме, где верховодит Синедрион. Оттуда также постоянно поступает важная информация». Тут в доклад снова встрял властный голос, теперь он немного размяк и даже отозвался ехидной усмешкой: «Не думаю, что первосвященник Каиафа, встречаясь со мной для приватных бесед, что-то скрывает от меня. Не в его это интересах. Иначе…»
Тут сотник не то чтобы возразил, но заметил, что Синедрион не может охватить вниманием и влиянием всю паству. «Там три крыла, три направления – фарисеи, саддукеи и ессеи. Храм их формально объединяет. Но Синедрион не всё ведает обо всех». Начальственный голос перебил: «Эти секты в Иерусалиме, – в паузе звучало презрение, – они вот где!» Тут в разговор, не иначе, встрял сжатый кулак. Потом последовала новая пауза, и тот кулак, видимо, ударил по столу: «А вот тайные! Что с теми, что рассеяны по колонии и ведут, как термиты, подрывную работу?! Маги всякие, колдуны, проповедники. Вот, говорят, ещё один появился – в Галилее… Известил тамошний консул». И тут вновь донёсся голос сыскного сотника: «Как раз сегодня я направляю туда своего доверенного. Он, кстати, здесь…» – «Вот как?..» Тут последовало молчание, потом шаги, и вдруг…
Голос. От неожиданности Имра утянул голову в плечи, так придавил его этот голос. По тембру он не усилился. Но исходил, казалось, отовсюду – и сверху, и из этой бесконечной круглой стены, и от пола. Он будто накрывал всё пространство сетью, какой нубийские гладиаторы ловят на ристалище соперников, а потом хладнокровно поражают их пикой. Цилиндрическая форма и эти растительного орнамента резные розетки так делили-размыкали звук, что он распадался на волокна, заполняя весь зал. Имра вертел головой туда-сюда и никак не мог определить не только источник звука, но даже и направление, откуда тот исходит. Хозяина звуковой ловушки это явно забавляло. Он ронял какие-то слова, которые метались по залу, он хмыкал, наблюдая растерянность несчастного иудея, и потешался над ним, как матёрый кот потешается над придавленной мышкой.
Возвращался Имра в подавленном настроении, чувствуя себя униженным и оскорблённым. Кэмиллус безмолвствовал, понимая его чувства, да и сам был удручён начальственным приёмом. Ему, натуре иного склада, претили солдафонские замашки большинства соплеменников. Но что он, выходец из небогатого италийского рода, мог тут поделать?! До окончания срока службы было ещё далеко. Единственным его утешением было чтение исторических да драматических сочинений, свитки которых лежали на его дальних полках, – Еврипид, Вергилий, Аристотель, Лукреций…
Когда они возвратились тем же скрытым путём в сыскную центурию, сотник первым делом смягчил настроение подопечного увесистым кошельком. По глазам понял, что это было весьма кстати – глаза у того оживились. А дальше началось обсуждение предстоящей командировки.
Порядок действий предстоял такой. Вначале его путь лежит в Иерусалим. Туда его доставят специальной крытой повозкой. На Иерусалим – неделя. Там надо напитаться тамошним духом, освежив впечатления, запастись новостями, само собой, посетить Храм. Остановиться лучше в гостинице. С сестрой Руфью повидаться можно, но лучше вне дома, чтобы не завязывать разговора с её мужем. А через неделю уже пешим ходом на север – в Галилею. Там по месту. О том проповеднике много свидетельств. Значит, найти его не составит труда. Обратно – к зиме. Повод убедительный: помочь сестре, она ждёт ребёнка. Имра вскинул взгляд: действительно? Ответный взгляд был тоже безмолвным, Кэмиллус, сотник сыскной манипулы, был осведомлён лучше его, брата. Сестра Руфь, которую он удачно выдал замуж за иерусалимского сапожника, ждала третьего ребёнка.
4
Назад он вернулся в кислев – месяц ноябрь. Сперва наведался в Иерусалим. Проведал сестру, которая как раз родила. Помог ей на первых порах. А уж потом выехал в Кесарию.
Встречу сотник сыскной центурии предложил провести у него, своего посланника. Так, полагал он, тот будет чувствовать себя увереннее, оттого и отчёт будет откровеннее.
Прислуживала им молодая египтянка, которую ещё по весне Имра взял в обслугу: судя по столу и убранству столовой, хозяйство она вела толково.
Разговор по жесту сотника начал Имра. Слово «проповедник» он не применял. Называл исключительно «Равви», то есть учитель. Так, судя по всему, к нему и обращался. Только «Равви». При этом глаза Имры лучились восторгом. Сотник связал его взглядом с пригожей прислужницей – не тут ли причина радости? – но тот в ответ на поданное ею блюдо лишь кивнул и рассказа своего не прервал. Чем же он поразил его, этот равви?
О-о! Вокруг него собираются люди. От него исходит благодать. Он произносит простые бесхитростные слова, но перед тобой является истина. Все люди – братья и сёстры. Перед Сущим все равны. Он всех любит как своих детей. И если все обитатели Ойкумены это примут сердцем, вокруг установится мир и любовь. Не будет войн, исчезнут ложь и обман. Земля станет подлинным раем. И всем тут достанет хлеба и крова. Не будет ни бедных, ни богатых. Все будут делиться со всеми, потому что в каждом сердце поселится любовь. Слово «любовь» он произносил на все лады. Сотник вновь коснулся взглядом прислужницы, однако опять ничего не заметил – и Имра, и она держались ровно и спокойно. Имра много говорил о беседах Равви, когда вокруг собирался народ. А потом стал рассказывать о чудесах, которые он являл. Одна женщина полжизни билась в припадках, так её донимал дьявол. Равви положил ей на голову ладонь, лихоманка утихла, бес – все видели – вылетел из неё раскалённым шершнем, и она заулыбалась, обливаясь благодарными слезами. В другом селении к Равви обратились родственники прокажённого, который жил на отшибе в ветхой лачуге. Равви не убоялся зайти к нему и через какое-то время вывел того на свет. Кожа бедолаги была чистая, как кожа новорождённого младенца. А ещё – тоже сам видел – он поднял со смертного одра девочку. Девочка двенадцати лет умерла два дня назад, в доме стоял плач и рыдания, такое было прекрасное дитя. Равви поднял её, она открыла глаза и воскресла. То-то было восторгов в доме. Вся улица собралась, чтобы порадоваться вместе с родителями. И все дружно славили Равви.
О чём ещё поведал посланец? При Равви постоянно находятся несколько доверенных – его учеников. Его, сына храмового чтеца Шимона, Равви тоже приветил, услышав, как он наизусть читает большие периоды из Святого Писания. Вначале проверил, а потом просил прилюдно произнести ту или иную главу. И всякий раз благодарно улыбался, что ученикам не надо искать в источнике. Оценили эти способности и другие его ученики, прося прочитать наизусть то или иное место в Своде. А когда узнали, что он хорошо владеет счётом, знает толк в денежных курсах, то доверили общинную казну, которая хранилась в кожаном бауле.
Сотник обратил внимание, что посланник отклоняется в тень. Свет потоком лился из створа на крыше. Солнце смещалось, меняя световой поток, и Имра отклонял свою голову, норовя уйти в тень. Лишь изредка, забываясь, вновь открывался, но при этом склонял голову, роняя на лоб свои буйные кудри.
Поведал посланец и о том, что дар творить чудо обрели некоторые ученики. Он сам видел, как один из них избавил юношу от глухоты. А другой открыл путь слепому – тот прозрел и пошёл без поводыря. «А ты?» – не преминул спросить сотник. На это Имра не ответил, замялся и покачал головой.
О возвращении из Галилеи секретного посланца было тут же доложено наверх. Там не замедлили: они оба – сотник Кэмиллус и тайный посланец Имра – были вызваны.
Всё повторилось, как в первый раз. Закрытый паланкин. Циркумпулярный зал. Путь сотника по винтовой лестнице наверх. Однако на сей раз там стояла тишина. Голоса слышались издалека, и разобрать чего-либо было невозможно. Имра даже задремал. И видимо, не услышал тихой поступи. А очнулся от голосового обвала. Опять громогласно метался тот же начальственный голос, который давил своей тяжестью. Опять повторялась та же игра в «кошки-мышки». Но! Теперь тут был уже не «мышонок» Имра, это был вполне уверенный в себе человек, и он не согнулся под тяжестью звукового гнёта. Он встал, запрокинул голову и, отыскав в тонкой растительной резьбе – это были три колоса – силуэт человека, посмотрел ему прямо в глаза. На миг тот, видать, даже растерялся: надо же! Потом сместился по невидимой круговой анфиладе вправо и вновь подал голос. На сей раз он не давил тяжестью, а внятно произносил каждое слово, но… свистящим шёпотом. Такой звук, опадая, становился особенно зловещим и витиеватым. Но испытуемого и это не сбило. Сквозь гипсовую паутинку орнамента он без труда находил и источник звука, и глаза того, кто изрекал эти звуки, и само собой, сознавал суть речи.
Испытание на сей раз не ошеломило Имру. Скорее тот, кто испытывал его и давил презрением и хамством на своих подчинённых, был сбит с толку и озадачен. Это потом пояснил Кэмиллус. И в подтверждение своего вывода вложил в его ладонь кольцо-печатку, которое передал владелец громобойного голоса. Этот знак давал его владельцу право незамедлительно быть принятым на самом верху колониальной администрации.
Перебирая события того дня, Имра долго лежал с открытыми глазами. Даже здесь, у себя в доме, он до конца не мог избавиться от напряжения. Он не остерегался прислуги Фатимы, которая лежала рядом с ним, хотя знал, что она приставлена к нему Кэмиллусом. Он не остерегался самого Кэмиллуса и его начальства, хотя это были чужеземцы. Он остерегался… себя. Весь день он норовил отвести взгляд, скрыть в сумраке свои глаза, чтобы нечаянно не выдать то, что зародилось в его душе. Он видел Мессию. Мессию, которого ждал его отец, его мать, его родные, которого долго ждал его бедный обездоленный народ. Мессия явился. Он в Галилее. Скоро он явится в Иерусалим. И тогда… Сердце Имры охватил восторг, а глаза переполнились слезами.
Под утро ему приснился отец. Он молчал, но смотрел так ласково, так нежно, как, кажется, не смотрел даже в детстве.
* * *
Все наблюдения, донесённые осведомителем, центурион сыскной службы, как полагалось, изложил в докладной записке. Здесь был подробный отчёт, анализ и выводы.
В пояснении к докладной он достойным образом отметил роль секретного агента Имры. Привёл его методы исследования и анализа, пояснил их на примерах. Единственное, что сотник обошёл вниманием – эпизод в Эммаусе, куда попутно наведался доверенный. Это он описал в своём дневнике, где текущие заметки чередовались с выписками из Геродота или Аристотеля…
В Эммаусе жила старшая сестра Имры Эсфирь. Брату она очень обрадовалась. Эсфирь затеяла хорошее застолье и упросила мужа пригласить гостей. Исхак, муж Эсфири, коренастый, добродушный, стал зажиточным купцом-виноделом, его в городке уважали. Потому на семейный праздник собрались не только родичи мужа, а также городской глава и гаццан – старшина синагоги. Вот гаццан-то и обратился в администрацию с недоуменной запиской, которая попала в сыскную центурию.
Семейное торжество, начатое молитвами и благодарениями, шло своим достойным чередом. Чествовали хозяев, желая им дальнейшего благополучия и приплода; чествовали дальнего гостя, желая ему обрести семью и завести столько же детей, а их тут вилось ни много ни мало аж семеро. Всё было чинно и благородно. Но то ли хмельного вина оказалось больше, то ли сдержанности и деликатности меньше, но дальний гость вдруг напомнил, как неласково встретили его здесь шесть лет назад, когда они с младшей сестрой нуждались в помощи. Застолье притихло. Эсфирь вспыхнула, полыхнув своими чёрными очами. А Исхак, зажав свою добродушную улыбку, вышел из-за стола и больше не вернулся. Торжество скомкалось. Приглашённые родичи и горожане стали торопливо расходиться. Эсфирь повела детей укладывать. Когда застолье опустело, Исхак возвратился и велел шурину немедленно оставить его дом. Эсфирь, которая спустилась из спальни, кидала умоляющие взгляды то на мужа – куда же на ночь-то? – то на брата – зачем ты так! – но всё было тщетно…
А на следующий день к ним нагрянули римские солдаты. Они перепугали детей, ввели в смятение хозяев и перевернули весь дом в поисках чего-то запретного. От перепугу умерла давно нехожалая старуха – мать хозяина дома. Сотнику сыскной центурии не составило труда определить, какой манипулы страторы делали обыск. Декан конной стражи доложил, что к нему обратился человек по имени Имра и сообщил, что винодел из Эммауса Исхак торгует запретным зельем – гашишем.



