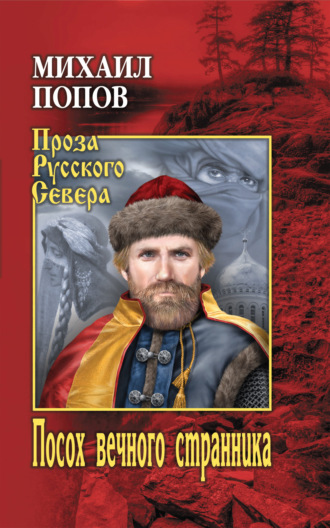
Михаил Константинович Попов
Посох вечного странника
Отпевать отца выпало ему, сыну Шимона, прозванному Саккариотом – Рыжим сменщиком. В той маленькой синагоге на окраине Иерусалима он читал по мёртвому отцу каддиш – молитву, где ни разу не произносится слово «смерть». Ему вторили десять мужчин, которые, взывая к небу, кричали хором во всё горло, чтобы Вышний был милостив к покойному, – только такая громкая молитва могла достичь неба. То же было дома, а потом на кладбище, когда спеленатое тело погребли в пещере.
Пришла беда – за ней, как волк к кошаре, крадётся другая. Так гласит еврейская мудрость. Не успела, кажется, затихнуть поминальная молитва, как соседняя пещерка тоже превратилась в могилу, – не вынеся гибели главы семейства, тихо угасла его жена.
Дом Шимона осиротел. Остались в нём он, восемнадцатилетний юноша, да его младшая сестра Руфь, которой было четырнадцать лет. В доме поселились горе и тоска. В отцовской синагоге стал править новый гаццан. Он назначил другого чтеца, своего зятя. В Храме сироте места не нашлось, хотя на отпевании отца первосвященник Анна́ во всеуслышание сулил, что дети благочестивого Шимона в беде не останутся. Муж старшей сестры, виноградарь, принять под своё покровительство сирот-сродников отказался: дескать, у самих трое детей, семейство и без того едва сводит концы с концами, а налоги, которые требуют римские мытари, всё растут и растут. Что оставалось делать? По совету знающих людей он, сын Шимона, решил попытать счастья в Кесарии. Там – порт, молодому человеку всегда можно найти работу, да и младшей сестре подыскать дело.
2
Море они увидели, когда возница известил, что скоро конец пути. Оно лежало по левую руку. В утренних сумерках море показалось пустыней, какую они пересекали на пути из Хеврона в Вирсавию, когда отец брал его с собой. «Негев», – сказал отец. Он, сын Шимона, тогда ещё ребёнок, лишь кивнул, утомлённый дорогой. Так и здесь, уставший от поездки на медленных мулах, он лишь скосил взгляд на морскую пустыню и опять погрузился в забытьё. Как добрались до Кесарии, он не заметил. На постоялом дворе они с сестрой едва доплелись до циновки и тотчас заснули, изнурённые дорогой.
Уже за полдень он отправился на поиски работы и вышел к порту. Море сверкало под солнцем и терялось где-то далеко в голубой дымке. Это было завораживающее зрелище – картина впервые увиденного необъятного моря. Но ещё удивительнее казалось то, что открывалось вблизи – порт. Огромная рукотворная подкова охватывала своими лапами часть моря. В узкий проход заходили с моря корабли и торговые суда. Они становились бортами к причальным стенкам. И тотчас начиналась разгрузка или погрузка. Десятки грузчиков устремлялись по трапам и сновали туда и обратно, словно муравьи. Всё это и впрямь походило на муравейник, потому что издалека звуков не доносилось. Но чем ближе он подходил к порту, тем сильнее и явственнее становилось дыхание этого муравейника. Гремели цепи, скрипели уключины, плескали вёсла, стучали колёса повозок, ржали лошади, ревели ослы и мулы, доносились зычные команды шкиперов и надсмотрщиков, свистки и звуки трещоток, свист бичей, погоняющих рабов…
После тихого и благопристойного Иерусалима, который оживлялся только по праздникам, да и то не выходя из дозволенных иудейскими обычаями и римскими законами берегов, здесь, в Кесарии, казалось, гремел гром небесный, да что гром – ад открылся, столь непривычно всё было для новичка.
«Хаммаль» – так назвали его в порту. Он подумал, что это его новое прозвище. Но оказалось, что так по-арабски зовут всех, кто разгружает-загружает гребные и парусные суда. «Хаммаль» – значит грузчик. Арабов в порту было много, вот всех грузчиков так и называли – «хаммаль». Они все казались на одно лицо и одеты были одинаково: тряпица, обёрнутая вокруг головы, и набедренная повязка. И всё же постепенно выявлялись и особенности. По именам звали только старших – десятников. А если надо было окликнуть кого-то персонально, добавляли какую-нибудь внешнюю примету. Его назвали Харуф – что-то вроде нестриженого барашка – такие у него были курчавые волосы. Прозвище вызвало у него протест. На следующее утро он пришёл на причал наголо бритый. И… опростоволосился. Теперь, по представлению здешних острословов, он, конечно, не походил на курчавого барашка – стриженый, он стал ни больше ни меньше «имра» – жертвенный агнец. Вот это и стало его прозвищем. «Имра» и «Имра» – раздавалось то здесь, то там, и если он не слишком проворно исполнял приказания – тащить этот куль или ту плетёную корзину, – получал подзатыльник, а то и удар бамбуковой тростью – шкиперы не очень церемонились с грузчиками, особенно новенькими.
От палубы до склада было недалеко – сорок-пятьдесят локтей. Но ведь их надо пройти с немалым грузом – ведёрной амфорой или кулём фасоли, – да не пошатнуться на зыбком трапе, да внутри склада дойти до нужного места, и – добро, если корзину надо опустить на пол, а если её место под самым потолком, а наверху приёмщика-грузчика нет…
Скоро он и впрямь почувствовал себя «имрой» – жертвенным агнцем, которого перемалывают челюсти порта. Именно так – не подковой, а огромной челюстью невиданного животного представлялся теперь ему порт. Руки его были исцарапаны, плечи и спина горели от ссадин.
После третьего дня работы, угнетённый физически и морально, он решил бросить это место. Сил, казалось, больше не было. Выйдя за ворота склада, куда весь день таскал кули с чечевицей, он, опершись о створ, остановился. Смежный склад был уже закрыт. И тут он увидел чудо. В узком пространстве меж складских ворот, лишённый света, зеленел колосок. Зерно попало меж плит и проросло. Это маленькое чудо наполнило его, «Имру», робкой надеждой. Он опустился перед колоском на колени и взмолился. Работа здесь тяжёлая, условия рабские – гоняют, хлещут, да ещё эти насмешки. Но с другой стороны – здесь есть сытная дневная похлёбка, а под вечер выдают секель, и он может купить на него еды и порадовать сестру какой-нибудь недорогой сластью. И ещё одно легло на душу: на монете, которую он получил за работу, был изображён пучок колосьев…
День четвёртый принёс неожиданность. В короткий обеденный перерыв его поманил складской служитель из ромеев, сухопарый, коротко стриженный и, как все они, бритый. «Ты, я видел, вчера молился и загибал пальцы… Знаешь счёт?» – «Да, господин». – «Зайди ко мне вечером – проверю».
Проверку способностей молодой человека прошёл успешно. Со следующего дня он стал учётчиком. Стоя на пирсе у трапа, на первых порах рядом со складским служителем, он отмечал на папирусном листе число снесённых на берег джутовых кулей с рисом, фасолью или бобами; бочонков с оливковым маслом или вином, плетёных коробов с пряностями… Видя, что работник с порученным делом справляется, складской надсмотрщик оставил его, доверив вести учёт самостоятельно. И он не подвёл своего благодетеля, хотя злоязыкие грузчики то и дело сбивали его со счёта, бросая на ходу обидное прозвище.
Прозвище – что муха. Конечно, муха назойлива, да не вечна, зудела-зудела – да и сдуло. Его больше занимало другое. Не преступил ли он негласный закон иудеев, запрещающий сотрудничать с оккупантами. Одно дело – на тяжёлой работе, другое – в помощниках ромея-чиновника, пусть и малого ранга. Ведь если нарушишь тот неписаный закон, соплеменники отвергнут тебя, и ты станешь изгоем.
К концу дня он получил два секеля, то есть вдвое больше, чем за работу грузчика. Это его озадачило. День на третий, когда ромей-кладовщик подал ему снова два секеля, он заключил, что это правило. Вспомнился денарий, который ему отвалил за работу хмельной красильщик – столько он не получал ни в Храме, когда помогал отцу, ни в синагоге, выполняя обязанности чтеца. Стало быть, у ромеев знания ценятся выше, чем физическая работа. Грузчиков много, а знающих толк в грамоте наперечёт. Потому их способности и оцениваются выше. Разве это не справедливо?! А чтобы затвердить для себя это правило, точнее сказать, уже закон, один секель из двух он зашил в уголок долгого пояса. При этом произнёс благодарственную молитву. Не за секель как монету, а за открытие нового для себя закона. Завершив это важное дело, он попутно ощупал и другой конец пояса. Там у него была зашита другая памятка. Это был обол, который ему когда-то швырнул надменный легионер. Зачем он хранил этот знак обиды и унижения? Затем, чтобы не забывать.
Однажды на складе случилась пропажа. Так это оценил ромей-кладовщик. Сводки доставленного товара не сходились с записями, что вёл учётчик. Недоставало двух кулей риса. В обеденный перерыв, мигом опустошив плошку с чечевичной похлёбкой, молодой учётчик испросил у кладовщика разрешения осмотреть полки. «Валяй», – благодушно кивнул тот, он был занят свиными рёбрышками. Что дал поиск? Кули не пропали. Просто они оказались не на своём месте: один – в смежном отсеке, где были похожие кули с фасолью, другой провалился сквозь щель в настиле полки, только и всего. Но ромей-кладовщик находки молодого и сметливого иудея расценил очень высоко, причём не только словами. Он пожаловал монету, которую тот прежде никогда не видел, и важно пояснил, что это серебряный сестерций. Разглядывая вечером монету, на которой был изображён профиль римского императора, молодой иудей испытывал противоречивые чувства. Любое человеческое изображение было чуждо его вере. А тем более изображение главного поработителя его бедного народа. Но с другой стороны, эта монета давала возможность немного улучшить условия существования: жить в приличном постоялом дворе, купить сестре новую накидку, себе сандалии… Эти размышления занимали его больше всего. И лишь на окрайке сознания шевелилась, как зародыш змейки, ещё одна мыслишка, точнее даже не мыслишка, а сомнение: не слишком ли высокая плата за то пустяковое открытие? И не специально ли была подстроена та «пропажа»? Зачем – другой вопрос. Может, проверить? Или приручить?
Потом случилось ещё одно открытие. Ромей-благодетель оставил его после работы. Днём он в светлом хитоне сидел большей частью на пирсе под просторным парусинным зонтом, где у него был стол и стул. Отсюда он следил за погрузкой-разгрузкой. В его ведении находился десяток складов, отсюда он подавал команды и отдавал слуге-рабу распоряжения. Но его он зазвал в свою конторку, она находилась в одном из складов и представляла собой выгородку в дальнем углу. Это хорошо, что разговор будет не на виду. Стало быть, ромей понимает озабоченность иудея, который стережётся пасть в глазах соплеменников. Приглашённый хозяином, он сел за стол, но от вина отказался – запрет покойного отца. Ромей выжидательно посмотрел на него, но настаивать не стал, предложил апельсиновый сок и повёл рукой, дескать, угощайся. Тут были неуместные для иудея угощения, но было и то, что он отведал: оливки, финики, козий сыр… Ромей, попивавший рубиновое вино, был благодушен и разговорчив. Его звали Кэмиллус. Он впервые открыл своё имя и весело сообщил, что имя его совпадает с его должностью, потому что означает «хранитель». И сразу перешёл к имени сотрапезника. Он знал прозвища, которые прилепили молодому иудею грузчики. И из двух выбрал первое – Харуф, ведь волосы у него отросли, снова закучерявились, и он снова стал походить на нестриженого барашка. Так со смехом, поглаживая короткую чёлку, он пояснял свой выбор. И всё ещё улыбаясь, перешёл к тому, зачем позвал.
Речь шла о запретных в Римской империи товарах. Каких? Прежде всего о всяких дурманах – гашише, опии… «Ладно, если этими зельями пользуются обитатели колоний, – тут он сделал выжидательную паузу, наблюдая за молодым иудеем. – Худо, когда отраву потребляют страторы – римские солдаты. Какие из них после этого воины?!» Тут ромей опять замолчал, но на сей раз, чтобы снова налить вина. «Сюда, в Кесарию, всякую дурь тоже тайно доставляют. Надо эту заразу пресекать. Это задача общая – и наша, римской администрации, и ваша, коренных жителей». И неожиданно помянул покойного отца, дескать, наверняка он упреждал своего юного сына избегать этого дурного соблазна и не принимать дурманных зелий даже под страхом смерти. Иудей кивнул: да, так и было. «Вот, – обрадовался ромей. – Тут мы единомышленники. И если ты поможешь выявлять злодеев, которые сеют на твоей земле заразу, ты исполнишь волю твоего отца, одного из самых благоверных, насколько я понимаю, иудеев». Поминание отца, да ещё столь высоким словом, наполнило сердце сына теплом. Он благодарно кивнул. А ромей, заключив, что он соглашается помогать, обласкал словом и сына. Проворный, сметливый, внимательный – кому же тогда выявлять зло, как не ему?..
Шепотки и поглядки грузчиков, реплики шкиперов и надсмотрщиков молодой учётчик примечал и раньше, выделяя из общего шума порта. Но теперь они были поводом для догадок и умозаключений. Три грузчика о чём-то спорят, но переговариваются как-то вяло и, скорее всего, о пустяках. Тот египетский шкипер кого-то выглядывает, окидывая взглядом туда-сюда причальные территории. Надо понаблюдать, кого он выискивает. А ещё – за тем десятником, который покрикивает на свою артель и одновременно о чём-то переговаривается с надсмотрщиком галерных рабов. Широко расставленные глаза дают хороший обзор. Это его природное преимущество. Боковым зрением можно увидеть куда больше. И молодой иудей пользуется этим, не упуская из внимания главную свою обязанность – учёт товаров. Нет, шкипер интереса не представляет: он посылал в припортовую лавку мальчика-негра, тот притащил полную корзину провианту, но чего-то, видать, забыл и за это получил подзатыльник. А вот десятник, пожалуй, не прост. Командуя погрузкой, словом и жестом показывая на товар, он сунул очередному грузчику что-то за край набедренной повязки, это что-то было получено, видимо, от надсмотрщика. Сердце всколыхнулось. Теперь всё внимание на того хаммаля. Вот он поднялся по трапу на причал. На левом плече у него амфора. Почти не выбиваясь из общей череды, он немного смещается вправо. Там в четыре ряда натянутые канаты, которыми участок погрузки отделён от прибывших за товаром повозок. Ближе всех к ограждению – осёл с перемётными сумами. Левая сума распахнута. Короткий взмах руки – и небольшой свёрток, миновав канаты, скрылся в кожаной утробе. Сума обычная, упряжь тоже, но острый взгляд учётчика всё-таки кое-что примечает: на правом ухе осла метка – белое, величиной с обол, пятно.
Что дальше? Доложить об увиденном кладовщику? Но тот, как назло, сейчас внутри склада, а ему, учётчику, отлучаться нельзя. Ждать перерыва? Но тогда осла с тайным товаром уведут из порта. Крикнуть и остановить погрузку, но это значит – открыться и навлечь на себя беду: не нынче, так завтра тебя подстерегут где-нибудь в потёмках и перережут горло. А кого устроит такой конец, даже если ты «харуф» – маленький нестриженый ягнёнок?!
Молодой иудей поступил иначе. Осёл с меткой – не песчинка в море. Кесария куда меньше Иерусалима. К тому же в ней нет ни трущоб, ни каких-то потаённых уголков – царь Ирод выстроил город по образцу новых кварталов Рима: улицы прямые как стрелы. Знай шагай из конца в конец да поглядывай по сторонам, пока не упрёшься в крепостную стену.
Свои поиски начинающий следопыт начал с раннего утра, когда только рассвело. В припортовой части города делать было нечего. Там находились дворец Ирода, теперь занятый префектом, храм Августа, ипподром, дома легатов и солдатские казармы. Там ослов не держат. Начал со своей окраины, ближних улиц, где было немало постоялых дворов. Сторожам, которые подозрительно поглядывали на юнца, чего это он пялится за дувалы, объяснял, что ищет сбежавшего ишака. То же самое повторил повстречавшемуся армейскому патрулю, при этом сморщил жалобно лицо и показал коросты и ссадины на плечах, дескать, хозяин за пропажу зловредной животины бьёт его смертным боем.
Вечером, уже после ежедневной работы, на свои поиски он взял сестру. Так было меньше подозрений, к тому же Руфь, которой он велел слегка прикрыть лицо, отвлекала внимание, а у него, брата, расширялся при этом обзор поиска. Осла в тот раз они не нашли. Зато он приметил, что Руфь привлекает внимание не только его ровесников или молодых мужчин, но и бородатых отцов семейства, они щурятся или цокают языком.
Так, обходя подворье за подворьем, квартал за кварталом, улицу за улицей, утром в одиночку, вечером с сестрой, он нашёл-таки что искал. Ишак с белой меткой на правом ухе обнаружился возле дома на одной из срединных улиц, в конце её, совсем рядом с крепостной стеной. Это был обычный, ничем не приметный дом, где, как удалось выяснить, жил чеканщик из Аравии.
Утром тот ишак снова оказался на причале. Молодой иудей, собиравшийся заступить на свой пост, решение тотчас переменил. Собираясь просто доложить, что возможное место нашёл, он теперь с ходу предложил проследить путь осла. Возможно, запрещённый товар он возит и в другие места. Начальник покровительственно потрепал его по кудрям: «Ай да Харуф!» Не каждый день попадаются такие сметливые молодые люди. С работы, понятно дело, отпустил. А напоследок посоветовал чаще менять облачение, чтобы не примелькаться, и протянул кошель с монетами.
У него появился азарт. Выработалась мягкая охотничья походка. И результаты не замедлили. За несколько дней наблюдений сметливому иудею, который представал то разносчиком воды, то возчиком лёгкой поклажи, то скороходом, удалось выявить целую цепочку перекупщиков и потребителей гашиша, неприметных ремесленников, купцов, мелких портовых чиновников. Чтобы не потерять их из виду, он на клочках папируса рисовал приметы домов, а ещё на дувалах делал пометки, черкнув кирпичом крест.
Дальнейшую судьбу этих греховников решали римские власти. Он этим особенно не интересовался. Знал только, что всех их арестовали. Фелюги, на которых привозили запретную отраву, тоже были задержаны. Слышал, что кто-то отделался штрафом, кто-то частью имущества, а кто-то попал в тюрьму и даже на каторгу.
Его больше занимала собственная судьба. Что будет с ним, с родной сестрой? Его тайную службу никто, кажется, не заметил – для хаммалей, корабельщиков и купцов он оставался Харуфом – тем же несмышлёным барашком. А для ромеев? Неужели не оценят его способности? Неужели он так и останется учётчиком? Подмывало обратиться напрямую к Кэмиллусу. Но он сдерживал себя. Терпение, терпение и терпение – вот что он усвоил за недели своей тайной охоты. Только терпение даёт плоды и результаты. Так и получилось. Кэмиллус сам кликнул его, вновь зазвав в свою потайную конторку. На сей раз ромей открылся, что служит в тайной страже, выполняя обязанности таможенного и пограничного офицера, а эта складская должность – всего лишь прикрытие. И открыв подлинное своё лицо, сообщил, что способностями молодого иудея заинтересовалась верхушка колониальной администрации.
И тут случилось то, чего больше всего опасался молодой иудей. Ему предложили перейти на тайную службу и подписать соответствующий документ. Будь это наедине с Кэмиллусом, который был в меру напорист и одновременно деликатен, он, поколебавшись, может, и согласился бы. Но легат – старший воинский начальник гарнизона Кесарии – был не таков. Медный лицом, которое казалось частью его доспехов, надменный и спесивый, он не скрывал презрения и брезгливости, когда обращался к молодому иноплеменнику. Это больно задевало того. Он переводил взгляд на Кэмиллуса, ища поддержки, защиты, но тот, сам зависимый от своего начальника, только супился да отводил глаза. Сердце молодого иудея трепетало, как птица, попавшая в силки. Сказать «да» он не желал. Сказать «нет» боялся. Что было делать? Всё решило конкретное предложение: надо возвратиться в Иерусалим, пристроиться на любую должность в обслуге Храма и тайно докладывать обо всём, что он там увидит и услышит… И тут он наконец выдавил: нет.
Дальше было унизительно и даже больно: хлыст у легата был упругий, а рука тяжёлая.
На постоялый двор он вернулся уже за полночь. Сестра встретила его со слезами. Она думала, что случилась какая-то беда. Беда случилась. Но признаваться в этом он не стал, щадя её ещё детское сердце.
Следующий день утешения не принёс. В работе ему отказали. «Сам виноват, что не согласился», – сухо сказал Кэмиллус. И добавил, что в порту отныне работы ему не будет. Куда исчезло его недавнее добродушие?!
Денег, что удалось отложить за прошедшие недели, было немного. Снова пришлось перебираться в самый дешёвый постоялый двор, урезать все расходы, тратясь только на еду.
В поисках работы он день за днём обходил город. Случайные заработки мало помогали, а постоянной работы никто не давал.
Однажды он оказался возле северных ворот. Ноги вынесли его за городскую стену. И тут перед ним отворилась морская ширь. Он уже месяц обретался возле моря, а к морской воде ни разу не прикасался. Забыв на миг свои беды, он устремился к берегу. Но не напрямик, а вкось, подальше от высокой стены мола, потому что возле неё покачивались сторожевые триремы, по бортам которых стояли грозные воины.
Волны накатывали на песчаный берег с шумом и хлопаньем, похожим на удары бичей. Однако вода была мягкая и тёплая и напомнила руки матушки, когда она гладила его кудри, отчего на глаза накатила тихая грусть. Умывшись приливной водой, он подобрал кусок отполированного волнами дерева, видимо, обломок галеры или рыбацкой фелюги, и отошёл от берега на кромку масличной рощи. Вглубь он не пошёл, а сел, прислонившись спиной к тёплому стволу. Он глядел на море и думал о своей участи. Как быть? Смириться и пойти в услужение к ромеям? Но как же неписаный закон соплеменников? Служить оккупантам – значит стать предателем, а тем более наушничать, выдавая тайны своего народа, то есть стать вдвойне предателем. Если это станет известно Иерусалиму, его не просто отвергнут, его забьют камнями и прах бросят гиенам. А не согласиться на это – значит околеть с голоду…
Перед глазами что-то мельтешило. Далёкий парус? Нет, это происходило вблизи. На тонкой паутинке, как на канате, раскачивались два паука. Один был крупнее, позади него висела опутанная муха, лапка её ещё дрыгалась. Удачная охота, наверное, придавала пауку уверенности. А его сопернику вид этой спеленатой мухи, скорее всего, внушал страх, если таковой был в их природе. Хозяин положения поводил передними лапками, словно очищая их от мушиной слизи, и одновременно будто околдовывал соперника, сбивая с толку. Да, он был крупнее и опытнее. Лёгкий порыв ветерка – он стремительно бросился вперёд, парализовал соперника уколом, чуть помешкал, словно торжествуя победу, и уже деловито стал пеленать того своей паутиной.
Картинка эта не понравилась юноше, он поднял сухую ветку и ударил ею по паутине. И ветка, и пауки – живой и пойманный, и спеленатая муха полетели в сторону моря, ближе к прибою. А он лёг на землю и незаметно задремал.
Приснился ему сон. Будто идёт он к лавочнику, у которого несколько раз покупал мамалыгу. Идёт не один, а ведёт за руку сестру. Руфь плачет, но не противится. Она знает, зачем брат ведёт её. Он уже давал это понять. Лавочник, лысый и без двух передних зубов, прикрывает рот двумя пальцами, словно требует молчания. Глаза его маслятся. Руфь остаётся с лавочником, а он, брат, уходит прочь, унося с собой корзину еды. Только напоследок ласково целует сестру, чувствуя на губах вкус соли.
С солью на губах он и проснулся. Это были его собственные слёзы. Стыд, недоумение и боль. Чего больше? Всего. А ещё упрёк сестре. Когда это он ей давал понять, что может быть такой крайний случай?!
Он даже вскочил. Не просто перевернулся на бок и поднялся, а вскочил, возмущённый этим укором. И сам же осадил себя: а, должно быть, тогда, когда явился этот приговор «на крайний случай»…
Он застонал, как стонут от зубной боли, только отчаяннее. Как же так вышло? Была семья – отец, мать, две сестры, он. Был дом. Был достаток. А теперь ничего. Почти ничего. Ни отца, ни матери, ни дома. И они с сестрой сироты и нищие. Кто же довёл их до этого? Кто всё погубил? Ядовитыми пятнами на крашеном полотне стали проступать лица. И соплеменники, и ромеи. И свои, и поработители. И свои нередко оказывались не лучше чужих, хотя и прятали свою суть за благостно-смиренными улыбками. Вот Каиафа. Это ведь он отстранил от Храма отца. А до того вместе с Анно́й, своим тестем, назначил в депутацию к префекту, где отец простудился. А потом они всем Синедрионом наущали правоверных идти на гору, чтобы остановить стройку акведука, и там стряслась беда… Кто в том виноват? Все. И те озверевшие солдаты, которые забили отца… И тот меднорожий легат, который хлестал его, сына Шимона… И префект, который отдал приказ проучить непокорных иудеев… Все.
Он схватил кусок задубелого дерева, что вытащил из воды, и стал хлестать им направо и налево, словно персидской саблей. По стволам, как по туловищам. По ветвям, как по рукам. Это тому меднорожему… Это префекту… Это их императору. И Каиафа тут подвернулся под руку. И его лукавец тесть. И другие первосвященники…
И тут он остановился. Если все они лукавцы, притворщики, лицемеры, за что перед ними преклоняться?! Эта мысль, такая простая и точная, пришла впервые. Они не достойны того, чтобы их почитали. Надо только виду не показывать.
Это открытие он сделал самостоятельно. И оно так охватило его – аж озноб пронизал. Сердце его на миг остановилось, словно обледенело, потом очнулось и снова застучало. Но теперь, он догадался, уже по-новому.



