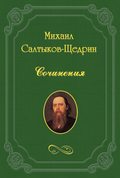Михаил Салтыков-Щедрин
Суета сует
Оказывается, однако ж, что отлет стрижей был мнимый, что эти интересные птицы не улетали, а только временно обмирали. В ту самую минуту, как мы пишем эти строки, весь их лагерь в движении. Замечается стремление организоваться, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор. Раздаются памятные голоса, поющие, что все цветочки аленькие, да очень они маленькие, затеваются критические статьи без надежды высказать какую-нибудь определенную мысль, но в твердом уповании на милость божию; не оставляются без упования даже современные политические события. Выискивается бард, берет в руки лиру и, вдохновленный сражением при Гравелоте,{2} бряцает так:
СЕГОДНЯ{3}
Нет в сердце веры, нет любви.
Полно все темной силой злобы;
Где ни пройдут (кто?), – за ними вслед
Война и смерть, пожар и гробы.
Наука, гений, совесть, труд,
Одев убийство багряницей,
Позорно, как рабы, бегут
Вслед за кровавой колесницей.
Как звери – сонмы христиан
Терзают яростно друг друга…
Течет кровавая река,
Течет от Севера до Юга!
Смысл этого стихотворения ясен: война есть война, но, признаемся, такого окончания, как:
Течет кровавая река,
Течет от Севера до Юга! —
нельзя было ожидать. Это ясный признак, что стрижи пробудились от обморока, но еще полны недавних грез. Что ж! в добрый час! пробуждайтесь, господа стрижи! Бряцайте на лирах, захлебывайтесь ежемесячно злобой, обуревайтесь страхами, пламенейте надеждами, напруживайтесь, прорицайте, прудите, прудите, прудите!.. Кстати, и время наступило для вас самое подходящее, самое стрижиное.
Г-н Н. Соловьев хотя и ведет свое дело особняком от организующегося ныне хора «стрижей», но это нимало не освобождает его от традиций «Эпохи», в которой он был усерднейшим вкладчиком, и не обеспечивает его мысли от всевозможных неопределенностей, которыми отличались и отличаются все произведения этой школы. Представление об «Эпохе» тяготеет над ним; одушевляя его охотой разрешать всякого рода философские, эстетические и общественные задачи, оно в то же время непроницаемым туманом заволакивает эти задачи перед его умственным взором, оставляя ему, таким образом, одно вполне твердое прибежище: надежду на неизреченное божие милосердие, которое как-нибудь поможет выйти невредимым из сети поправок, недомолвок и противоречий. К сожалению, однако ж, на сей раз и эта надежда обманула его самым обидным образом.
В разбираемой брошюре автор имел в виду проследить значение наслаждений «в сфере нравственных феноменов». Задача эта несомненно имеет очень живой интерес для современного человечества, но в том-то и дело, что исследователи, подобные г. Соловьеву, всегда берутся за самые живые вопросы и всегда же сводят их «на нет». Прежде всего, автору следовало бы, по крайней мере, определить, что он разумеет под словом «наслаждение», но он забывает даже об этом и прямо начинает с голословного перечисления «утех», которые, по его мнению, наиболее распространены в современном обществе. Из того что он наслаждению противополагает труд, еще не получается ровно никакого объяснения, потому что автор и тут ограничивается противоположением исключительно голословным, и того, что между этими двумя формами человеческой деятельности существует действительный антагонизм, ничем не доказывает. По мнению г. Соловьева, человек родится с двумя карманами, из которых в одном находится труд, а в другом – наслаждение, и затем попеременно запускает руку то в один, то в другой карман. Прекрасно. Не будем доказывать, насколько это мнение нелепо, но имеем полное право заметить, что ежели бы оно было даже справедливо, все же необходимо разъяснить читателю эту справедливость, а не бросать ему нагой афоризм без малейшего ознакомления с теми посылками и тем умственным процессом, который привел автора к указанному заключению. Это отсутствие ясно сознанного исходного пункта, свидетельствующее о крайней запутанности мысли автора, отражается и в дальнейшем его изложении. Вот, например, как рассуждает автор о господстве цинического элемента в легкой литературе. «Последний (то есть цинизм), – говорит он, – потому теперь так поднял голову, что неразрешимость насущных вопросов жизни и все более возрастающая нужда общественная пришибли, подавили таланты; поэтому мы и видим, что многие даровитые и сильные голоса у нас молчат, а другие, более добродушные и более опрятные литераторы заговорили громче прежнего»… Скажите на милость, ужели все эти слова не во сне написаны? Почему «возрастающая общественная нужда» может подавлять таланты? Что это за общественная нужда? Почему представителями цинизма являются «добродушные и опрятные литераторы»? Кто даст ответ на эти вопросы? Очевидно, что г. Соловьев уже слишком понадеялся на божие милосердие, а вышло, что в деле философии, как и во всяком другом, следует почаще припоминать пословицу: «На бога надейся, а сам не плошай».