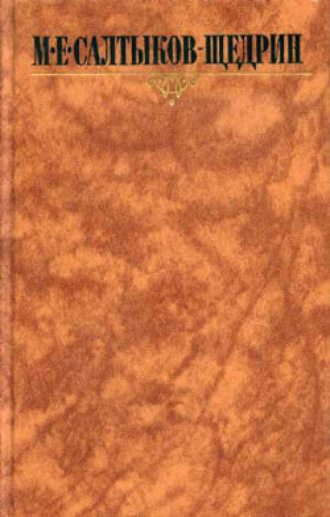
Михаил Салтыков-Щедрин
Письма к тетеньке
Но есть разные манеры просить прощения, – вот с этим я не могу не согласиться.
Бывает так: стоит узник перед узоналагателем и вопиет: пощади! А между тем, все нутро у него в это время трепещет от гнева и прочих тому подобных чувств, и настолько явно трепещет, что сам узоналагатель это видит и понимает. Эта формула испрошения прощения, конечно, самая искренняя, но я не могу ее одобрить, потому что редко подобная искренность оценивается, как бы она того заслуживала, а в большинстве случаев даже устраняется в самом зародыше.
Бывает и так: приходят к узнику и спрашивают: ну, что, раскаялся ли? – а он молчит. Опять спрашивают: да скажешь ли, дерево, раскаялся ты или нет? Ну, раз, два, три… Господи благослови! раскаялся? – а он опять молчит. И этой манеры я одобрить не могу, потому что… да просто потому, что тут даже испрошения прощения нет.
Наконец, бывает и так: узник без всяких разговоров вопиет: пощади! – и с доверием ждет. Эта манера наиболее согласная с обстоятельствами дела и потому самая употребительная на практике. Она имеет характер страдательный и ни к чему не обязывает в будущем. Конечно, просить прощения вообще не особенно приятно, но в таком случае не надобно уже шалить. А если хочешь шалить и на будущее время, то привередничества-то оставь, а прямо беги и кричи: виноват!
Но я не прибегнул ни к одной из сейчас упомянутых манер, а создал свою особую манеру: написал поздравительные стихи. И вот теперь мне кажется, что я слегка перепустил. Положим, что и мое выражение покорности было вынужденное, но процесс сочинения стихов сообщал ему деятельный характер – вот в чем состоял его несомненный порок. Не следовало мне писать стихи, ни под каким видом не следовало. Следовало просто сознать свою вину, сказать: виноват! – и затем, как ни в чем не бывало, опять начать распевать: "сие мое сочинение есть извлечение…"
Все это ужасно запутанно, а может быть, даже и безнравственно, но не забудьте, что в этой путанице главными действующими лицами являлись Катоны, которые готовились сделаться титулярными советниками, а потом…
Впрочем, был у меня один товарищ в школе, который вот как поступил. Учился он отлично: исправно сдавал уроки и из "свинства", и из "сего моего сочинения", и из руководства, осененного крылами Мусина-Пушкина. Вел себя тоже отлично: в фортку не курил, в карты не играл, курточку имел всегда застегнутою и даже принимал сердечное участие в усилиях француза-учителя перевести (по хрестоматии Таппе) фразу: Новгородцы такали, такали, да и протакали. А именно: когда учитель, после долгих и мучительных попыток, наконец восклицал: "Mais cette phrase n'a pas le sens commun!" [52] – то товарищ мой очень ловко объяснял, что Новгород означает «колыбель», что выражение «такать» – прообразует мнения сведущих людей, а выражение «протакать» предвещает, что мнения эти будут оставлены без последствий. Так что учитель сразу все понял, воскликнул: ainsi soit il [53] – и с тех пор все недоразумения по поводу новгородского таканья были устранены. И вот этот самый юноша, прилежный и покорный, как только сдал свой последний экзамен, сейчас собрал в кучу все «свинства» и бросил их в ретираду. Можете себе представить всеобщее изумление! Даже начальство обомлело, узнав об этом подвиге, но могло только подивиться мудрости совершившего его, а покарать за эту мудрость уже не могло. Ибо оно, милая тетенька, целых шесть лет ставило этого юношу в пример, хвасталось им перед начальством, считало его красою заведения, приставало к его родителям, не могут ли они еще другого такого юношу сделать… И вдруг оказалось, что в течение всех шести лет у этого юноши только одна заветная мысль и была: вот сдам последний экзамен, и сейчас же все прожитые шесть лет в ретирадном месте утоплю! Понятно, что скандальная история была скрыта…
К сожалению, вскоре после выпуска, товарищ мой умер; но ужасно любопытно было бы знать, как поступал бы он в подобных же случаях в течение дальнейшей своей жизненной проходимости?
* * *
Вы, конечно, удивитесь, с какой стати я всю эту отжившую канитель вспомнил? Да так, голубушка, подошел к окну, взглянул на улицу – и вспомнил. Есть память, есть воображение – отчего же и не попользоваться ими? Я нынче все так, спроста, поступаю. Посмотрю в окно, вспомню, а потом и еще что-нибудь вспомню – и вдруг выйдет картина. Выводов не делаю, и хорошо ли у меня выходит, дурно ли – ничего не знаю. Весь этот процесс чисто стихийный, и ежели кто вздумает меня подсидеть вопросом: а зачем же ты к окну подходил, и не было ли в том поступке предвзятого намерения? – тому я отвечу: к окну я подошел, потому что это законами не воспрещается, а что касается до того, что это был с моей стороны «поступок» и якобы даже нечуждый «намерения», то уверяю по совести, что я давным-давно и слова-то сии позабыл. Живу без поступков и без намерений и тетеньке так жить советую.
Но ежели мне даже и в такой форме вопрос предложат: а почему из слов твоих выходит как бы сопоставление? почему "кажется", что все мы и доднесь словно в карцере пребываем? – то я на это отвечу: не знаю, должно быть, как-нибудь сам собой такой силлогизм вышел. А дабы не было в том никакого сомнения, то я готов ко всему написанному добавить еще следующее: "а что по зачеркнутому, сверх строк написано: не кажется – тому верить". Надеюсь, что этой припиской я совсем себя обелил!
Правда, что это до известной степени кляуза, но ведь нынче без кляузы разве проживешь? Все же лучше кляузу пустить в ход, нежели поздравительные стихи писать, а тем больше с стиснутыми зубами, с искаженным лицом и дрожа всем нутром пардону просить. А может быть, впрочем, и хуже – и этого я не знаю.
Жить так, хлопать себя по ляжкам, довольствоваться разрозненными фактами и не видеть надобности в выводах (или трусить таковых) – вот истинная норма современной жизни. И не я один так живу, а все вообще. Все выглядывают из окошка, не промелькнет ли вопросец какой-нибудь? Промелькнет – ну, и слава богу! волоки его сюда! А не промелькнет – мы крючок запустим и бирюльку вытащим. Уж мы мнем эту бирюльку, мнем! уж жуем мы ее, жуем! Да не разжевавши, так и бросим. Нет выводов! только и слышится кругом. И вот одни находят, что страшно жить среди такой разнокалиберщины, которую даже съютить нельзя; а другие, напротив того, полагают, что именно так жить и надлежит. Что же касается до меня, то я и тут не найду конца, страшно это или хорошо. Страшно так страшно, хорошо так хорошо – мое дело сторона!
Шкура чтобы цела была – вот что главное; и в то же время: умереть! умереть! умереть! – и это бы хорошо! Подите разберитесь в этой сумятице! Никто не знает, что ему требуется, а ежели не знает, то об каких же выводах может быть речь? Проживем и так. А может быть, и не проживем – опять-таки мое дело сторона.
Я лично чувствую себя отлично, за исключением лишь того, что все кости как будто палочьем перебиты. Терся поначалу оподельдоком – не помогает; теперь стараюсь не думать – полегчало. До такой степени полегчало, что дядя Григорий Семеныч от души позавидовал мне. Мы с ним, со времени бабенькинова пирога, очень сдружились, и он частенько-таки захаживает ко мне. Зашел и на днях.
– Стало быть, так без выводов ты и надеешься прожить? – пристал он ко мне, когда я ему изложил норму нынешнего моего жития.
– Так и надеюсь.
– Чудак, братец, ты! да ведь коль скоро отправной пункт у тебя есть, посылка есть, вывод-то ведь сам собою, помимо твоей воли, окажется!
– Ежели окажется – милости просим! А я все-таки ничего не знаю!.. И знать не желаю! – прибавил я с твердостью.
– Так что, например, вот ты сейчас об карцере рассказывал – все это так, без заключения, и останется?
– Да, дяденька. По крайней мере, я не вижу, какая может быть надобность…
– Ах, ты! а впрочем, поцелуй меня!
Мы поцеловались.
– Скажу тебе по правде, – продолжал дядя, – давно я таких мудрецов не встречал. Много нынче "умниц" развелось, да другой все-таки хоть краешек заключения да приподнимет, а ты – на-тко! Давно ли это с тобой случилось?
– Как вам сказать… да вот с тех пор, как надоело.
– Что надоело-то?
– Да там… ну, и прочее… Вообще.
– Да говори же, братец, толком! дядя ведь я тебе: не бойся, не выдам!
– Ах, дядя, как это вы, право, требуете… Надоело – только и всего. По-настоящему, оно должно бы нравиться, а мне – надоело!
– Ну, это не резон. Ты встряхнись. Если должно нравиться, так ты и старайся, чтоб оно нравилось. Тебя тошнит, а ты себя перемоги. А то «надоело»! да еще «вообще»! За это, брат, не похвалят.
– Я, дядя, стараюсь. Коли чувствую, что не может нравиться, то стараюсь устроить так, чтобы, по крайней мере, не ненравилось. Зажму нос, зажму глаза, притаю дыхание. Для этого-то, собственно, я и не думаю об выводах. Я, дяденька, решился и впредь таким же образом жить.
– Без выводов?
– Просто, как есть. По улице мостовой шла девица за водой – довольно с меня. Вот я нынче старческие мемуары в наших исторических журналах почитываю. Факты – так себе, ничего, а чуть только старичок начнет выводы выводить – хоть святых вон понеси. Глупо, недомысленно, по-детски. Поэтому я и думаю, что нам, вероятно, на этом поприще не судьба.
Дядя задумался на минуту, потом посмотрел на меня пристально и сказал:
– Слушай! а ведь тебе страшно должно быть?
– Страшно и есть.
– Ведь ежели ты отрицаешь необходимость выводов, то, стало быть, и в будущем ничего не предвидишь?
– Не предвижу… да, кажется, что не предвижу…
– Ни хорошего, ни худого?
– Да… то есть вроде сумерек. Вот настоящее – это я ясно вижу. Например, в эту минуту вы у меня в гостях. Мы то посидим, то походим, то поговорим, то помолчим… Дядя, голубчик, зачем заглядывать в будущее? Зачем?
– Чудак ты! да как же, не заглядывая, жить? Во-первых, любопытно, а во-вторых, хоть и слегка, а все-таки обдумать, приготовиться надо…
– А я живу – так, без заглядыванья. Живу – и страшусь. Или, лучше сказать, не страшусь, а как будто меня пополам перешибло, все кости ноют.
– А помнишь, однажды ты даже уверял, что блаженствуешь?..
– Да как вам сказать? Может быть, и блаженствую… ничего я не знаю! Кажется, впрочем, что нынче это душевным равновесием называется…
– Фу-ты! это тебя Тетка Варвара намеднись в изумление привела!
С этими словами он взял шляпу и ушел. Вид у него был рассерженный, но внутренне, я уверен, что он мне завидовал.
Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся и всякий раз все в этом роде разговор ведем – неужто же это не равновесие? И хоть он, по наружности, кипятится, видя мое твердое намерение жить без выводов, однако я очень хорошо понимаю, что и он бы не прочь такого житья попробовать. Но надворные советники ему мешают – вот что. Только что начнет настоящим манером в сумерки погружаться, только что занесет крючок, чтобы бирюльку вытащить, смотрит, ан в доме опять разнокалиберщина пошла.
Во всяком случае, милая тетенька, и вы не спрашивайте, с какой стати я историю о школьном карцере рассказал. Рассказал – и будет с вас. Ведь если бы я даже на домогательства ваши ответил: "тетенька! нередко мы вспоминаем факты из далекого прошлого, которые, по-видимому, никакого отношения к настоящему не имеют, а между тем…" – разве бы вы больше из этого объяснения узнали? Так уж лучше я просто ничего не скажу!
Читайте мои письма так же, как я их пишу: в простоте душевной. И по прочтении вздохните: ах, бедный! он выводы потерял!
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
А знаете ли что – ведь и надворный советник Сенечка тоже без выводов живет. То есть он, разумеется, полагает, что всякий его жест есть глубокомысленнейший вывод, или, по малой мере, нечто вроде руководящей статьи, но, в сущности, ай-ай-ай как у него по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, как и у нас, грешных.
Сижу я намеднись утром у дяди, и вдруг совершенно неожиданно является Сенечка прямо из "своего места". И прежде он не раз меня у отца встречал, но обыкновенно пожимал мне на ходу руку и молча проходил в свою комнату. Но теперь пришел весь сияющий, светлый, в каком-то искристо-шутливом расположении духа. Остановился против меня и вдруг: а дай-ко, брат, табачку понюхать! Разумеется, он очень хорошо знает, что я табаку не нюхаю, но не правда ли, как это было с его стороны мило? Очевидно, ему удалось в это утро кого-нибудь ловко сцапать, так что он даже меня решился, на радостях, приласкать.
Кажется, что это же предположение мелькнуло и у дяди в голове, потому что он встретил сына вопросом:
– Что нынче так рано? или все дела, с божьей помощью, прикончил?
– Да так, дельце одно… покончил, слава богу! – ответил Сенечка, – вот и разрешил себе отдохнуть.
– И Павел сегодня дело о похищении из запертого помещения старых портков округлил. Со всех сторон, брат, вора-то окружил – ни взад, ни вперед! А теперь сидит запершись у себя и обвинительную речь штудирует… ишь как гремит! Ну, а ты, должно быть, знатную рыбину в свои сети уловил?
– Да, есть-таки…
– То-то веселый пришел! Ну, отдохни, братец! Большое ты для себя изнурение видишь – не грех и об телесах подумать. Смотри, как похудел: кости да кожа… Яришься, любезный, чересчур!
– Нет, папаша, не такое нынче время, чтоб отдыхать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра – опять в поход!
Последние слова Сенечка проговорил удивительно серьезно и даже напыжился. Но так как он заранее решил быть на этот раз шаловливым, то через минуту опять развеселился.
– Сегодня мне действительно удалось, – сказал он, потирая руки, – уж месяца с четыре, как я… и вдруг! Так нет табачку? – прибавил он, обращаясь ко мне. – Ну-ну, бог с тобой, и без табачку обойдемся!
Словом сказать, он был так очарователен, что я не выдержал и сказал:
– Ах, Сенечка, если б ты всегда был такой!
– Нельзя, мой ангел! (Он опять слегка напыжился.) И рад бы, да не такое нынче время!
И, как бы желая доказать, что он действительно мог бы быть "таким", если б не "такое время", он обнял меня одной рукой за талию и, склонив ко мне свою голову (он выше меня ростом), начал прогуливать меня взад и вперед по комнате. По временам он пожимал мои ребра, по временам произносил: "так так-то" и вообще выказывал себя снисходительным, но, конечно, без слабости. Разумеется, я не преминул воспользоваться его благосклонным расположением.
– Сенечка! – начал я, – неужто ты до сих пор все ловишь?
– То есть как тебе сказать, мой друг, – ответил он, – персонально я тут не участвую, но…
– Ну да, понимается: не ты, но… И не известно тебе, когда конец?
– Не знаю. Но могу сказать одно: война так война!
Он помолчал с минуту и прибавил:
– И будет эта война продолжаться до тех пор, пока в обществе не перестанут находить себе место неблагонадежные элементы.
Сознаюсь откровенно: при этих словах меня точно искра электрическая пронизала. Помнится, когда-то один из стоящих на страже русских публицистов, выдергивая отдельные фразы из моих литературных писаний, открыл в них присутствие неблагонадежных элементов и откровенно о том заявил. И вот с тех пор, как только я слышу выражение "неблагонадежный элемент", так вот и думается, что это про меня говорят. Говорят, да еще приговаривают: знает кошка, чье мясо съела! И я, действительно, начинаю сомневаться и экзаменовать себя, точно ли я не виноват. И только тогда успокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успеваю доказать себе, что ничьего мяса я не съел.
– Ты, однако ж, не тревожься, голубчик! – продолжал Сенечка, словно угадывая мои опасения, – говоря о неблагонадежных элементах, я вовсе не имею в виду тебя; но…
– Но?
– Но, конечно, ты мог бы… А впрочем, позволь! я сегодня так отлично настроен, что не желал бы омрачать… Папаша! не дадите ли вы нам позавтракать?
– С удовольствием, мой друг, только вот разговоры-то ваши… Ах, господа, господа! Не успеете вы двух слов сказать – смотришь, уж управа благочиния в ход пошла! Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность!
– Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтоб другие разговоры вести!
– То-то, что с этими разговорами как бы вам совсем не оглупеть. И в наше время не бог знает какие разговоры велись, а все-таки… Человеческое волновало. Искусство, Гамлет, Мочалов, "башмаков еще не износила"… Выйдешь, бывало, из Британии, а в душе у тебя музыка…
– А помните, папенька, как вы рассказывали: "идешь, бывало, по улице, видишь: извозчик спит; сейчас это лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шагов на двадцать да и крикнешь: извозчик! Ну, он, разумеется, как угорелый. Лошадь стегает, летит… тпру! тпру!.. Что тут смеху-то было!"
– Да, бывало и это, а все-таки… Нынче, разумеется, извозчичьих лошадей не разнуздывают, а вместо того ведут разговоры о том, как бы кого прищемить… Эй, господа! отупеете вы от этих разговоров! право, и не заметите, как отупеете! Ни поэзии, ни искусства, ни даже радости – ничего у вас нет! Встретишься с вами – именно точно в управу благочиния попадешь!
– Дядя! – вступился я, – надо же, однако, раз навсегда разъяснить…
– А коли надо, так и разбирайтесь между собой, а я – уйду. Надоело. Благонадежность да неблагонадежность… черт бы вас побрал!
Дядя не на шутку рассердился, хлопнул дверью и скрылся.
– Старичок! – произнес ему вслед Сенечка, но не только без гнева, а даже добродушно.
– А к старикам надо быть снисходительным, – прибавил я, – и ты, конечно, примешь во внимание, что твой отец… Ах, мой друг, не всё одни увеличивающие вину обстоятельства надлежит иметь в виду, но и…
– Еще бы!
За завтраком Сенечка продолжал быть благосклонным и, садясь за стол, ласково потрепал меня по плечу и молвил:
– Так, так, что ли? война?
И вновь повторил, что война ведется только против неблагонадежных элементов, а против благонадежных не ведется. И притом ведется с прискорбием, потому что грустная необходимость заставляет. Когда же я попросил его пояснить, что он разумеет под выражением "неблагонадежные элементы", то он и на эту просьбу снизошел и с большою готовностью начал пояснять и перечислять. Уж он пояснял-пояснял, перечислял-перечислял – чуть было всю Россию не завинил! Так что я, наконец, испугался и заметил ему:
– Остановись, любезный друг! ведь этак ты всех русских подданных поголовно к сонму неблагонадежных причислишь!
На что он уверенно и с каким-то неизреченным пренебрежением ответил:
– Э! еще довольно останется!
Вы понимаете, что на подобные ответы не может быть возражений; да они с тем, конечно, и даются, что предполагают за собой силу окончательного решения. "Довольно останется!" Что ни делай, всегда "довольно останется!" – таков единственный штандпункт, на котором стоит Сенечка, но, право, и одного такого штандпункта достаточно, чтобы сделать человека неуязвимым.
Взгляните на бесконечно расстилающееся людское море, на эти непрерывно сменяющиеся, набегающие друг на друга волны людского материала – и если у вас слабо по части совести, то вы легко можете убедить себя, что сколько тут ни черпай, всегда довольно останется. И не только довольно, но даже и убыли совсем нет. Так что, ежели не обращать внимания на относительное значение вычерпываемых элементов – а при отсутствии совести что же может побудить задумываться над этим? – то почувствуется такая легкость на душе и такая развязность в руках, что, пожалуй, и впрямь скажешь себе: отчего же и не черпать, если на месте вычерпанной волны немедленно образуется другая?
Какая будет эта новая волна – это вопрос особый, и разрешит его, конечно, не Сенечка. У него взгляд на это дело количественный, а не качественный, и сверх того он находит отличное подкрепление этому взгляду в старинной пословице: было бы болото, а черти будут, которая тоже значительно облегчает его при отправлении обязанностей. Его даже не смущает мысль, что в том, чего, по его мнению, еще довольно останется, могут, в свою очередь, образоваться элементы, которые тоже, пожалуй, черпать придется. Он не глядит так далеко, но ежели бы и пришлось опять черпать, черпать без конца, он и тут не затруднится, а скажет только: черпать так черпать! Цельного, органического, полезного он, разумеется, не создаст, а вот рассекать гордиевы узлы да щипать людскую корпию – это он может.
Главный конек Сенечки и единственное вразумительное слово, которое не сходит у него с языка, – это "современность". Современность будто бы требует господства разнокалиберщины и делает ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сенечка охотно готов заколоть в ее пользу будущее. Завтрашний день он еще понимает, потому что на завтра у него наклевывается новое дельце, по которому уже намечены и свидетели; но что будет послезавтра – до этого ему дела нет. Ни до чего нет дела: ни до влияний на общее настроение в настоящем, ни до отражений в будущем.
Он принадлежит к той неумной, но жестокой породе людей, которая понимает только одну угрозу: смотри, Сенечка, как бы не пришли другие черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тут его выручает туман, которым так всецело окутывается представление о "современности". Этот туман до того застилает перед его мысленным взором будущее, что ему просто-напросто кажется, что последнего совсем никогда не будет. А следовательно, не будет места и для осуществления угроз.
Одним словом, Сенечка – один из тех поденщиков современности, которые мотаются из угла в угол среди разнокалиберщины и не то чтобы отрицают, а просто не сознают ни малейшей необходимости в каких бы то ни было выводах и обобщениях. Сегодня дельце, завтра дельце – это составит два дельца… Чего больше нужно?
– Сенечка, – сказал я, – допустим, что это доказано: война необходима… Но ты говоришь, что она будет продолжаться до тех пор, пока существуют неблагонадежные элементы. Пусть будет и это доказанным; но, в таком случае, казалось бы не лишним хоть признаки-то неблагонадежности определить с большею точностью.
– Да ведь я чуть не целый час перечислял тебе эти признаки!
– Да, но в этом перечислении скорее выразились указания твоего личного темперамента, нежели действительно твердые основания. Многие из указанных тобою признаков и фактов в целом мире принимаются как вполне благонадежные…
– В целом мире – да, а у нас – нет.
– Однако ведь это не резон, душа моя. Если в общечеловеческом сознании известное действие или мысль признаются благонадежными, то как же я могу угадать…
– Шалишь, брат! Не только можешь угадать, но и знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность – не может угадать!
– В том-то и дело, что ты в этом отношении безусловно ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ничего не знаю. Когда человек составил себе более или менее цельное миросозерцание, то бывают вещи, об которых ему даже на мысль не приходит. И не потому не приходит, чтоб он их презирал, а просто не приходит, да и все тут.
– Так пускай приходит. Важная птица! ему какое-то миросозерцание в голову втемяшилось, так он и прав! Нет, любезный друг! ты эти миросозерцания-то оставь, а спустись-ка вниз, да пониже… пониже опустись! небось не убудет тебя!
– Да если бы, однако ж, и так? если бы человек и принудил себя согласовать свои внутренние убеждения с требованиями современности… с какими же требованиями-то – вот ты мне что скажи! Ведь требования-то эти, особенно в такое горячее, неясное время, до такой степени изменчивы, что даже требованиями, в точном смысле этого слова, названы быть не могут, а скорее напоминают о случайности. Тут ведь угадывать нужно.
– И угадывай!
– Согласись, однако ж, что в выборе между случайностями не трудно и ошибиться. Стало быть, по-твоему, и ошибка может подлежать действию войны?
– Да-с, может-с.
– Так что, собственно говоря, в основании твоей войны лежит слепая случайность?
– Да-с, случайность… ну, что ж такое, что случайность! На то война-с!
Сенечка начал к каждому слову прибавлять слово-ерс, а это означало, что он уж закипает. Право вести войну казалось ему до такой степени неоспоримым, а определение неблагонадежности посредством неблагонадежности же до такой степени ясным, что в моих безобидных возражениях он уже усматривал чуть не намеренное противодействие. И может быть, и действительно рассердился бы на меня, если б не вспомнил, что сегодня утром ему "удалось". Воспоминание это явилось как раз кстати, чтоб выручить меня.
– Ну-ну! – воскликнул он благосклонно, – чуть было я не погорячился! А сегодня мне горячиться грех. Сегодня, душа моя, я должен быть добр. Впрочем, покуда это еще секрет, но со временем ты узнаешь и сам увидишь… Да, так о чем же мы говорили? Об том, кажется, что и случайность следует угадывать? – что ж, я думаю, что мой взгляд правильный! Мы в такое время живем, когда случайность непременно должна быть полагаема на весы. Конечно, тут могут произойти ошибки: степень виновности, содействие или только попустительство и так далее… но ведь в каком же человеческом деле не бывает ошибок? И притом никто не препятствует приносить оправдания… Напротив! раскаяние – ведь это, так сказать, цветок… Ах, голубчик! поверь, что я и сам всем сердцем болею… и всегда, при всяком удобном случае, сколько могу… И может быть, не один заблуждающийся пролил благодарную слезу… Но ты, кажется, не веришь?
– Помилуй! даже очень верю!
– Ты, пожалуйста, не смотри на меня, как на дикого зверя. Напротив того, я не только понимаю, но в известной мере даже сочувствую… Иногда, после бесконечных утомлений дня, возвращаюсь домой, – и хочешь верь, хочешь нет, но бывают минуты, когда я почти готов впасть в уныние… И только серьезное отношение к долгу освежает меня… А кроме того, не забудь, что я всего еще надворный советник, и остановиться на этом…
– Было бы безрассудно… о, как я это понимаю! Ты прав, мой друг! в чине тайного советника, так сказать, на закате дней, еще простительно впадать в меланхолию – разумеется, ежели впереди не предвидится производства в действительные тайные советники… Но надворный советник, как жених в полунощи, непременно должен стоять на страже! Ибо ему предстоит многое совершить: сперва получить коллежского советника, потом статского, а потом…
– Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. Всё язвы да язвы кругом – тяжело, мой друг! Должно же когда-нибудь наступить время для уврачевания их!
– Стало быть и уврачевание входит в твою программу? – радостно изумился я.
– Еще бы! ведь я до сих пор только растравляю… на что похоже! Правда, я растравляю, потому что этого требует необходимость, но все-таки, если б у меня не было в виду уврачевания – разве я мог бы так бодро смотреть в глаза будущему, как я смотрю теперь?
– Ах, голубчик! так что ж ты давно мне об этом не сказал?
– И поверь мне, что рано или поздно, а дело уврачевания поступит на очередь. И даже скорее рано, чем поздно, потому что не далее как вчера я имел об этом разговор, и вот, в кратких словах, результат этого разговора: не нужно поспешности! но никогда не следует упускать из вида, что чем скорее мы вступим в период уврачевания, тем лучше и для нас, и для всех! Для всех! – повторил он, прикладывая к носу указательный палец.
– Браво! Сенечка! так давай же говорить об уврачевании!
– С удовольствием, мой друг, хотя, как я уже объяснил тебе, очередь…
– Да мы будем говорить без очереди… так! В чем же, по-твоему, должно заключаться уврачевание?
– Ну, это будет зависеть… Прежде всего, надо расчистить почву, а потом уж и средства уврачевания определятся сами собой.
– Так, значит, вперед, и тут ни на что верное рассчитывать нельзя?
– Вперед, душа моя, только утописты загадывают; действительная же мудрость в том состоит, чтобы пользоваться наличным материалом и с помощью его созидать будущее. Насущных вопросов, право, больше чем достаточно, и ежели хотя часть их подвергнуть рассмотрению – разумеется, в пределах благоразумия, – то и в таком случае дело уврачевания значительно подвинется вперед. А который из этих вопросов надлежит рассмотреть немедленно и который до времени положить под сукно – это уж покажут обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить почву, а потом уже созидать!
– Эх, кабы ты поскорее ее расчистил! Взял бы да и… только уж, сделай милость, меня-то не прихвати!
– Что ты! что ты! успокойся, мой друг! Так вот к этой самой расчистке я и направляю все мои усилия. Надеюсь, что они увенчаются успехом, но когда именно наступит вожделенный день, – все-таки заранее определить не могу.
– Но надеюсь, что когда этот день наступит… чин коллежского советника… а?
– Ну, чин-то коллежского советника я и так, за выслугу лет, получу…
– Стало быть, Wladimir?.. браво, Сенечка! браво!
– Владимир не Владимир, а Анны вторыя… это, пожалуй, не невозможно.
Разумеется, я поспешил зараньше поздравить его, и, право, мне кажется, он был очень доволен, что перспектива уврачевания разрешалась так удачно при помощи Анны вторыя.
Итак, прежде всего: война так война! потом "уврачевание", но в чем оно будет состоять – бабушка еще сказала надвое. Таковы Сенечкины "принципии". И в заключение Анны вторыя – это, кажется, самое ясное.
Некоторое время Сенечка сидел в состоянии той приятной задумчивости, которую обыкновенно навевают на человека внезапно открывшиеся перспективы, полные обольстительнейших обещаний. Он слегка покачивал головой и чуть слышно мурлыкал; я, с своей стороны, сдерживал дыхание, чтоб не нарушить очарования. Как вдруг он вскочил с места, как ужаленный.
– А ведь я позабыл! – воскликнул он, бледнея. – Самое главное-то и забыл! Что, ежели… но нет, неужто судьба будет так несправедлива?.. А я-то сижу я "уврачеваниями" занимаюсь! Вот теперь ты видишь! – прибавил он, обращаясь ко мне, – видишь, какова моя жизнь! И после этого… Извини, что я тебя оставляю, но мне надо спешить!
Он бегом направился к двери, а через несколько секунд уже был на улице. Не успел я хорошенько прийти в себя от этой неожиданности, как в дверях столовой показалась голова дяди.
– Убежал? – спросил он меня.
– Да, что-то случилось…
– Это он опять на ловлю… вот жизнь-то анафемская! И каждый день так… Придет: ну, слава богу, изловил! посидит-посидит, и вдруг окажется, что изловил да не доловил – опять бежать надо! Ну, и пускай бегает! А мы с тобой давай будем об чем-нибудь партикулярном разговаривать!
* * *
То же самое отсутствие жизненных выводов усматривает и Дыба, и чрезвычайно об этом скорбит. Представьте, какое с ним курьезное на днях происшествие случилось. Встал он утром с постели, как обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не приезжал ли за ним курьер с приглашением прибыть для окончательных переговоров по весьма нужному делу, спросил кофею, взял в руки газету, и вдруг… видит: "Увольняется от службы по прошению: бесшабашный советник Дыба". Сначала, разумеется, не понял и даже с расстановкой произнес:







