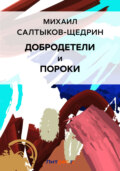Михаил Салтыков-Щедрин
Мелочи жизни
Еще не так давно так называемые «машины» (органы) были изгнаны из трактиров; теперь Московский трактир щеголял двумя машинами, Новотроицкий – чуть не тремя. Отобедавши раза три в общих залах, я наслушался того, что ушам не верил. Говорили, что вопрос о разрешении курить на улицах уже «прошел» и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы. Говорили смело, решительно, не опасаясь, что за такие речи пригласят к генерал-губернатору. В заключение, железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт.
Хорошее это было время, гульливое, веселое. Денег было много, а ежели у кого и оказывалась недостача, то это значило: перед деньгами. Приятели, на радостях, охотно давали взаймы, в трактирах – охотно верили в долг. И, притом, много ли нужно человеку, особливо московскому? – рюмка, две рюмки, три рюмки – вот он и пьян! Потому что у него внутри уж гнездо заведено. А на закуску – кусочек хлеба с крошечным ломтиком ветчины. И этого достаточно, потому что водка сама по себе насыщает. Даже половые встрепенулись и летали по залам трактиров с сияющими лицами, довольные и счастливые, что наконец узы разорваны и наступило время настоящей «вольной» работы. И они высоко держали своего рода "знамя".
Прибавьте ко всему этому прибаутки Кокорева, его возню с севастопольскими героями, угощения, увеселительные поездки по Николаевской железной дороге, кутежи в Ушаках – и согласитесь, что бедному провинциалу было от чего угореть.
Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопрос об этом «прошел». Но всего более занимал здесь вопрос о прессе. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать уж повысила тон. В особенности провинциальная юродивость всплыла наружу, так что городничие, исправники и даже начальники края не на шутку задумались. Затевались новые периодические издания, и в особенности обращал на себя внимание возникавший "Русский вестник". При этом Петербург завидовал Москве, в которой существовал совершенно либеральный цензор, тогда как в Петербурге цензора всё еще словно не верили превращению, которое в их глазах совершалось. Что касается устности, то она была просто беспримерная. Высказывались такие суждения, говорились такие речи, что хоть бы в Париже, в Бельвилле. Словом сказать, пробуждение было полное, и, разумеется, одно из первых украшений его составлял тогдашний premier amoureux,[88] В. А. Кокорев, который на своем образном языке называл его «постукиваньем».
Петербург был переполнен наезжими провинциалами. Все, у кого водилась лишняя деньга, или кто имел возможность занять, – все устремлялись в Петербург, к источнику. Одни приезжали из любопытства, другие – потому, что уж очень забавными казались "благие начинания", о которых чуть не ежедневно возвещала печать; третьи, наконец, – в смутном предвидении какой-то угрозы. Крутицын был тоже в числе приезжих, и однажды, в театре, я услыхал сзади знакомый голос:
– А! Мельмот-скиталец! Наконец!..
Мы встретились радушно и просто, как будто расстались только вчера. Крутицын по-прежнему глядел счастливо, так что сразу было видно, что он вполне доволен своим положением. На щеках его играл румянец, в волосах – ни признака седины или другого ущерба; походка такая же легкая, с приятным перевальцем, как восемь лет тому назад; нигде ни малейшей обрюзглости или отяжелелости; одет без франтовства, но безукоризненно. Вообще он не только не постарел, а как будто даже помолодел. Напротив того, я, судя по его словам, и похудел, и обрюзг, и постарел.
– Видно, на окраинах-то живется не совсем припеваючи! – молвил он, осматривая меня.
– Что же ты не прибавляешь: сам виноват? – пошутил я в ответ.
– Я, голубчик, держусь того правила, что каждый сам лучше может оценивать собственные поступки. Ты знаешь, я никогда не считал себя судьей чужих действий, – при этом же убеждении остался я и теперь.
Я узнал, что он приехал на короткое время и остановился в гостинице. Не столько дела привлекли его, сколько любопытство. Какие могли быть у него дела с бюрократией? – конечно, никаких! Но для любознательности поводов было достаточно, и он не отрицал, что в обществе проснулось нечто вроде самочувствия. Не лишнее было принять это явление в соображение, в виду «знамени», которое он держал, и, быть может, даже воспользоваться им на вящее преуспеяние излюбленных интересов.
– Здесь очень забавно, – выразился он чуть-чуть иронически, – курят на улицах так, что, того гляди, свод небесный закоптят. И бороды отпустили – узнать мудрено. Один Кокорев, с своими «героями», чего стоит! заглядеться можно!
– А пресса-то, пресса! – подстрекнул я.
– Ну, да, и пресса недурна. Что же! пускай бюрократы побеспокоятся. Вообще любопытное время. Немножко, как будто, сумбуром отзывается, но… ничего! Я, по крайней мере, не разделяю тех опасений, которые высказываются некоторыми из людей одного со мною лагеря. Нигде в Европе нет такой свободы, как в Англии, и между тем нигде не существует такого правильного течения жизни. Стало быть, и мы можем ждать, что когда-нибудь внезапно смешавшиеся элементы жизни разместятся по своим местам.
Кроме того, я узнал, что он женился. И теперь, в Петербурге, он с женой, но она уехала на вечер к сестре, а он предпочел театр.
– Хорошая у меня жена, умница! – прибавил он с видимым удовольствием.
– Итак, ты счастлив?
– То есть доволен, хочешь ты сказать? Выражений, вроде: «счастье», "несчастье", я не совсем могу взять в толк. Думается, что это что-то пришедшее извне, взятое с бою. А довольство естественным образом залегает внутри. Его, собственно говоря, не чувствуешь, оно само собой разливается по существу и делает жизнь удобною и приятною.
Сказавши это, он пожал мне руку и удалился, причем не спросил, где я живу, да и сам не пригласил меня к себе. Очевидно, довольство настолько овладело им, что он утратил даже представление о каком-либо ином обществе, кроме общества "своих".
Тем не менее я не утерпел и на другой же день, довольно рано, уже был у него.
Крутицын весь сиял счастьем – это с первого взгляда бросалось в глаза. Было часов около одиннадцати, но и он, и жена его уже держали свое «знамя». Она, прелестная, свежая, благоухающая, сидела у круглого стола и разливала чай. Крутицын правду сказал: по всем ее движениям, неторопливым и плавным, видно было, что она «умница». И ела, и пила она настоящим образом, не жеманилась, не играла ложкой, не стыдилась, как бы говоря: это я случайно пью чай и булку с маслом ем, а обыкновенно я питаюсь эфиром! И ела, и пила, как все смертные, и даже мне, без предварительных расспросов, налила чашку, – все как следует умнице. Что касается до него, то он, в утреннем неглижё (tout-a-fait correct[89]), помещался сбоку стола. Разумеется, меня не ждали и как будто даже удивились, что я так поспешил.
– Мне вчера еще Valerien говорил о вас, – сказала она, когда Крутицын отрекомендовал меня, – и я очень рада познакомиться с вами. Друзья моего мужа – мои друзья.
Я вспомнил подобную же сцену с сестрою Крутицына, и мне показалось, что в словах: "друзья моего мужа – мои друзья" – сказалась такая же поэма. Только это одно несколько умалило хорошее впечатление в ущерб «умнице», но, вероятно, тут уже был своего рода фатум, от которого никакая выдержка не могла спасти.
Через четверть часа «умница» скрылась в соседнюю комнату, и мы остались одни. Я некоторое время так пристально вглядывался в Валерушку, что он, смеясь, заметил:
– Ты что на меня так странно смотришь? Что-нибудь необыкновенное приметил?
– Нет, я просто угадать хочу.
– Что ж угадывать? Во мне все так просто и в жизни моей так мало осложнений, что и без угадываний можно обойтись. Я даже рассказать тебе о себе ничего особенного не могу. Лучше ты расскажи. Давно уж мы не видались, с той самой минуты, как я высвободился из Петербурга, – помнишь, ты меня проводил? Ну же, рассказывай: как ты прожил восемь лет? Что предвидишь впереди?..
Я рассказал, что мог, но запас у меня был не особенно обильный. В десять – пятнадцать минут все было кончено.
В самом деле, что я оставил позади за те восемь лет, в продолжение которых мы не видались? – воспоминание о какой-то бесконечно длинной и бессодержательной процедуре, до того однообразной, что она напоминала собой сказку о белом бычке. Настолько была общеизвестна эта процедура, настолько всем надоела, что, как только наступила благоприятная минута, все взапуски спешили отделаться от нее, как от кошмара. Что же касается до эпизодов и подробностей, которые оттеняли один день от другого, то они отзывались уже чересчур узкою специальностью и положительно никого не могли интересовать. Сегодня – следствие о вымогательстве, завтра – о сокрытии, послезавтра – о превышении или бездействии, и т. д. Хвалиться, после долгих лет разлуки, перед приятелем, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, с грехом пополам, какого-нибудь воришку-станового до вожделенного 3-го пункта, – право, не стоило. С другой стороны, и беседовать о дешевизне съестных припасов было неинтересно. Какое дело Крутицыну до того, что в городе Глазове пара рябчиков стоит семь копеек серебром? Все, что он может сказать по поводу таких россказней, – это:
– Дешевизна так неимоверна, что рябчики непременно должны быть давленые, а не стреляные. Во всяком случае, ни один порядочный повар не согласится подать давленую дичь на стол.
– Нет, лучше о тебе будем говорить, – сказал я, истощив свой запас.
– Что ж я могу рассказать тебе? Как видишь: женат, счастлив; восемь лет прошли как сон.
– Голубчик! ведь восемь лет немало времени; положим, для меня, с фактической стороны, они прошли почти бесследно. Существование мое было однообразное, подневольное и шло изо дня в день в совершенно чуждой среде. Но и тут я убежден, что еще не успел разобраться в недавнем прошлом и что впоследствии оно все-таки откликается. Выступят наружу личности, характеристики, осветятся факты, подробности, а за ним появится целая свита ошибок. Сколько окажется поводов для самобичевания, для укоров! Какие потрясающие драмы могут выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими! Нет, перемена, происшедшая в моем существовании, так еще свежа, – всего несколько месяцев, – что я не успел еще присмотреться к прошлому и не могу дать себе отчета, чем оно чревато, укорами или поощрениями. Напротив, ты…
– Мне кажется, что ты уж чересчур трагически смотришь на вещи…
– Ну, будет; действительно, я что-то некстати развитийствовался. Рассказывай же, рассказывай о себе, как жил, что делал?
– Как жил? – ну, жил, и больше ничего. Признаюсь, я даже не понимаю этого вопроса, и мне кажется, что, гоняясь за разрешением его, tu cherches midi a quatorze heures.[90] Смутно помнится, что мы уже однажды имели подобный разговор, и я объяснился с тобою. Но ты, по-видимому, неисправим. Итак, повторяю: я жил и не имею причины быть недовольным моим прошлым. Быть может, что это происходит оттого, что я ничего особенного не требую, или оттого, что сама судьба меня приголубливает, – во всяком случае, я и жалуюсь и сознаю себя вполне удовлетворенным. Однажды только я испытал серьезное горе – это когда умер отец, которого я страстно любил. Но время сгладило и это горькое впечатление; у меня осталась мать, к которой я также страстно привязан, и мы втроем живем душа в душу: maman, жена и я. Жаль только, что с сестрой приходится видеться редко, но тут уж ничего не поделаешь. Словом сказать, я живу семейно и согласно, а ежели в доме царствует согласие, то и жизнь не может не радовать. Достаточно этого для тебя?
– Но ведь у тебя было дело? доволен ли ты им?
– И дело было, и надеюсь, что и вперед ему буду служить. И скажу без хвастовства, что сознательно против однажды усвоенной regie de conduite[91] не поступал. Держать вверенное знамя совсем не легкая задача, и я исполнял ее по мере моих сил. Я не кичился моими преимуществами, не пользовался ими в ущерб моим доверителям, не был назойлив, с полною готовностью являлся посредником там, где чувствовалась в том нужда, входил в положение тех, которые обращались ко мне, отстаивал интересы сословия вообще и интересы достойных членов этого сословия в частности, – вот мое дело! Быть может, оно не блестяще, но удовлетворяет меня вполне. И несмотря на кажущуюся простоту, оно порядочно-таки сложно, так что облениться или опуститься мне не было времени. Ведь не только одна тишь да гладь царствовали, а были и шероховатости. Вспомни, что в мою компетенцию входили не одни дворяне, но и крестьяне. Сверх того, и все служащие по выборам… Покойный отец сделал многое, чтобы наш уезд в административном смысле был безупречен, и я шел по стопам его. Неужели всего этого недостаточно?
– Помилуй! как недостаточно? напротив!
– Ты иронизируешь? находишь, что все это мелочи? Но что же делать, если ничего более крупного в жизни не видится?
– То-то вот и есть… отчего одни только мелочи? отчего положение вещей остается на одной точке и ни на какой осязательный результат указать нельзя?
– Pardon! Выражение: «мелочи» – сорвалось у меня с языка. В сущности, я отнюдь не считаю своего «дела» мелочью. Напротив. Очень жалею, что ты затеял весь этот разговор, и даже не хочу верить, чтобы он мог серьезно тебя интересовать. Будем каждый делать свое дело, как умеем, – вот и все, что нужно. А теперь поговорим о другом…
Мы поговорили еще минут десять о вчерашнем спектакле и расстались.
* * *
Прошло целых тридцать лет, наполненных какою-то пестротою, в которой трудно было отыскать руководящую нить. Эпоха «постукиванья» миновала быстро; наступило суровое, беспощадное отрезвление, умеряемое случайными и не всегда мотивированными возвратами к лучшим временам. В воздухе чуть не каждый день оттепель сменялась жгучим холодом, и наоборот; но настоящие теплые дни перепадали редко. Эти перемены заставляли себя чувствовать тем более мучительно, что наступали внезапно и вследствие чисто внешних, случайных причин. Явления, имевшие совершенно частный характер, обобщались и угнетающим образом отражались на целом жизненном строе. Жилось сомнительно, без уверенности в завтрашнем дне, без удовлетворения днем настоящим. Знамена, которые всякий спешил выкинуть в дни «возрождения», вдруг попрятались; самое представление о возрождении стушевалось и сменилось убеждением, что ожидание дальнейших развитий было бы ребячеством. Умы воротились к старинной, излюбленной теме: как бы выйти неповрежденным из сутолоки насущного дня. В прессе, рядом с «рабьим языком», народился язык холопский, претендовавший на смелость, но, в сущности, представлявший смесь наглости, лести и лжи. «Улица» притихла.
В течение всего этого времени я был почти исключительно поглощен литературными занятиями. Скорбных минут было немало, но, по крайней мере, поддерживалось горение мысли – и за то спасибо. Всего мучительнее было то, что писатель не мог определительно указать на своего читателя, так что голос его раздавался, так сказать, наудачу. Но, во всяком случае, литературный труд сам по себе представляет достаточно утешений. Допустим, что на особенно плодотворные результаты рассчитывать нечего, но все-таки думается, что хоть что-нибудь, хоть штрих один, хоть слабый звук – дойдет по адресу. Гудит и снует безымянная толпа, совсем не подозревая, что к ней обращено горячее писательское слово, – и вдруг выискивается адресат, который ловит это слово на лету… Это большое счастье, но в то же время, надо сказать правду, и большая редкость, потому что адресат робок и обнаруживать свои чувства не всегда считает полезным.
Повторяю: результаты моей деятельности были сомнительны, но существовал самый процесс излюбленного литературного труда, и это до известной степени удовлетворяло. Настоящее слово выговаривалось с трудом, но попытки сказать его все-таки существовали. Еще не утрачена была возможность полемизировать, и творцы холопского языка чувствовали хоть какую-нибудь узду. С течением времени и эта возможность исчезла, и холопский язык получил возможность всесильно раздаваться из края в край, заражая атмосферу тлением и посрамляя человеческие мозги.
С своей стороны, Крутицын крепче, нежели когда-нибудь, держал свое знамя. Он понимал, что плошать не следует, потому что в пестрое время на первом плане стоит значение минуты и возможность ее уловить. В первый раз пришлось ему постичь истинный смысл слова «борьба», но, однажды сознав необходимость участия этого элемента в человеческой деятельности, он уже не остановился перед ним, хотя, по обычаю всех ищущих душевного мира людей, принял его под другим наименованием. Он называл борьбу отстаиваньем освященных веками интересов и с гордостью говорил, что его нельзя смешивать с толпою беспокойных, которая занималась отыскиванием каких-то новых общественных идеалов и форм. Он, по преимуществу, действовал на местные правящие сферы: убеждал, приглашал оставить опасный путь и идти об руку по стезе благонамеренности. Но если это не удавалось, то, выждав «минуту», ехал в Петербург и настаивал на своем. И так как выбранная минута была всегда такая, когда в известных сферах было насчет благонамеренности «твердо», то жертв этой настойчивости оказывалось немало.
Словом сказать, Крутицын был доволен и среди «своих» пользовался не только популярностью, но и любовью. Несмотря на почти непреодолимые трудности, он создал из своего уезда действительный оазис, в котором, после эманципации, ни один помещик не продал ни пяди занадельной земли, в котором господствовал преимущественно сиротский надел и уже зародились серьезные задатки крупного землевладения. Даже мелкие сошки куда-то исчезли; остались только настоящие столпы, кровные деревенские джентльмены, которые обедали в своих семьях во фраках и белых галстуках.
Хотя в Петербург он приезжал довольно часто, но со мной уже не видался. По-видимому, деятельность моя была ему не по нраву, и хотя он не выражал по этому поводу своих мнений с обычною в таких случаях ненавистью (все-таки старый товарищ!), но в глубине души, наверное, причислял меня к разряду неблагонадежных элементов.
От времени до времени мы виделись, но исключительно в публичных местах, вполне случайно, и без разговоров расходились, пожав друг другу руки. Впрочем, о целях его наездов в столицу я почти всегда знал. Фамилия Крутицына приобрела уже значительную известность и встречалась в газетах наравне с фамилиями самых горячих защитников интересов консервативной партии. Помнится, что он даже кой-что пописывал, хотя без особенного успеха. Он значительно изменил свои прежние убеждения относительно бюрократов и соглашался, что, при известных условиях, между интересами бюрократическими и сословными не только не существует ни малейшей розни, но, напротив, первые споспешествуют вторым, а вторые оплодотворяют первые. Поэтому он относится с доверием даже к департаментским столоначальникам. Он ходатайствовал, подавал записки, добивался участия в разнообразных комитетах и комиссиях и уже не стоял исключительно на сословной почве, но выказывал намерение перейти на почву общегосударственную. Сословная обеспеченность может быть достигнута только при соответствующем устройстве всего государственного уклада, – настаивал он, и слова его, будучи, в сущности, самым ординарным общим местом, считались мудрыми. Ему неоднократно предлагали место губернатора и даже выше, но он наотрез отказывался. В этом отношении он остался верен отцовским «принципам» и находил, что сословная честь требует неизменной преданности исключительно сословному знамени.
Раза два-три я встречался с ним за границей, преимущественно в Эмсе, куда он от времени до времени ездил (всегда в сопровождении жены), чтобы подлечить какую-то неисправность в легких. Здесь, благодаря полному досугу, он был менее сдержан и охотно возвращался к дружеским собеседованиям. Разговоры наши, впрочем, не касались «знамени», ни вообще внутренней политики, а вращались исключительно около кулинарных интересов. Где лучше обедать: в Hotel «Vierjahreszeiten» или в кургаузе? А, может быть, еще лучше – с утра разузнавать по известным отелям, в котором из них предполагается наиболее подходящий обед? Крутицын отзывался о немецкой кухне не только без презрения, как это делает большинство русских гастрономов, но даже хвалил ее. И она, с своей стороны, способствовала душевной ясности, перевариваясь легко, без желудочных переполохов.
– Во всяком обеде найдешь два-три блюда очень приличных, – говорил он, – и притом таких, от которых не чувствуется в желудке никакой тяжести. Все здесь так устроено, чтобы питание, без ущерба в гастрономическом смысле, не вредило лечению, но, напротив, содействовало.
– Да, голубчик, ограждение интересов желудка – вот в своем роде знамя, – поддакивал я ему.
– У нас, где-нибудь во Владикавказе, непременно свининой отпотчуют или солониной накормят, а здесь даже menus[92] в табльдотах составляется не иначе, как под наблюдением водяного комитета.
– Да, но ведь и свинина вкусна!..
– Вкусна – не спорю! но в гигиеническом смысле…
Стало быть, и в кулинарном отношении он был счастлив; желудок в исправности! Многие этого блага с детских лет добиваются, да так и сходят в могилу с желудочным засорением.
Сверх того, он был горячий поклонник Бисмарка и выражался о нем:
– Это человек!
И в этом я ему не препятствовал, хотя, в сущности, держался совсем другого мнения о хитросплетенной деятельности этого своеобразного гения, запутавшего всю Европу в какие-то невылазные тенета. Но свобода мнений – прежде всего, и мне не без основания думалось: ведь оттого не будет ни хуже, ни лучше, что два русских досужих человека начнут препираться о качествах человека, который простер свои длани на восток и на запад, – так пускай себе…
Повторяю: наши собеседования были легкие, гигиенические, и Крутицын был, по-видимому, благодарен, что я не переношу их на другую почву.
Однажды, однако ж, я не вытерпел и спросил его:
– Правда ли, что ты считаешь меня неблагонадежным элементом?
– Mais puisque tu demandes cent milles tetes a couper![93]
– Фу-ты!
Ответ его был несколько придурковат, но так как он, видимо, был счастлив, выказав нечто похожее на остроумие, то я не возражал дальше. Счастье так счастье! – пусть выпивает чашу ликования до дна!
Несколько раз я порывался спросить его, что он делает в "своем месте" и подвинулось ли хоть на вершок что-нибудь вследствие его настояний, отстаиваний, ходатайств и вообще вследствие той сутолоки, которой он неустанно предается ради излюбленного «знамени»; но, предвидя тот же стереотипный ответ, который и прежде слыхал от него, воздержался.
Впрочем, и за границей всегда так случалось, что постепенно наезжали на воды люди, связанные с Крутицыным более интимным образом, нежели я, и тогда он незаметно исчезал для меня в толпе "своих".
Гораздо позднее я узнал, что счастье его усугубилось: он познал свет истины. Молодость уже миновала (Крутицыну было под шестьдесят), да кстати подрос и сын, – у него их было двое, но младший не особенно радовал, – которому он и передал из рук в руки дорогое знамя, в твердой уверенности, что молодой человек будет держать его так же высоко и крепко, как держали отец и дед. Сам же Валерьян Сергеич бесповоротно заключился в своем chateau[94] и исключительно предался осенившему его душевному обновлению. Сначала он отдался спиритизму, потом сделался ревностным редстокистом, а наконец и сам начал кой-что придумывать. Сложится у него в голове какой-нибудь произвольный афоризм – он и исповедует его, не останавливаясь перед самыми крайними выводами. Рассказывали, что по вечерам в обширном зале его chateau собирались домочадцы, начиная от жены, детей, гувернанток и бонн и кончая низшей прислугой. Ставился аналой; Крутицын надевал черную ряску, выбирал главу из Евангелия и толковал ее, разумеется, в смысле излюбленного афоризма. Толкования эти продолжались час и два; слушатели, конечно, не прекословили, а только вздыхали. И он был счастлив безмерно.
В эпохи нравственного и умственного умаления, когда реальное дело выпадает из рук, подобные фантасмагории совершаются нередко. Не находя удовлетворений в действительной жизни, общество мечется наудачу и в изобилии выделяет из себя людей, которые с жадностью бросаются на призрачные выдумки и в них обретают душевный мир. Ни споры, ни возражения тут не помогают, потому что, повторяю, в самой основе новоявленных вероучений лежит не сознательность, а призрачность. Нужен душевный мир – и только.
Нельзя даже с уверенностью сказать, как относятся сами выдумщики афоризмов к своим выдумкам: сознают ли они себя способными поддержать их, или последние приходят к ним случайно и принимаются исключительно на веру. Скорее всего, в этих случаях наиболее решительным образом влияет бесприютность жизни, умственная расшатанность и полное отсутствие реальных интересов. Нельзя же, в самом деле, бессрочно удовлетворяться культом какого-то «знамени», которое и само по себе есть не что иное, как призрак, и продолжительное обращение с которым может служить только в смысле подготовки к другим призракам. Поэтому переход от «знамени» к спиритизму, редстокизму и к исповеданию таких истин, как "уши выше лба не растут" или "терпение все преодолевает", вовсе не так неестественно, как это кажется с первого взгляда…
* * *
В последний раз я виделся с Крутицыным недавно. Я был уже во власти неизлечимого и тяжкого недуга, как он совершенно неожиданно навестил меня.
Приехал он в Петербург по крайнему случаю. В первый раз в жизни он испытал страшное горе: у него застрелился младший сын, прекрасный и многообещавший юноша, которому едва минуло осьмнадцать лет.
Молодой человек не успел еще сойти со школьной скамьи, а в существование его уже закралась двойственность. По-видимому, он не так легко, как отец и старший брат, принимал на веру россказни о свойствах «знамени», и та обязательность, с которою последние принимались в родной семье, сильно смущала его. Сам ли он дошел до каких-то неясных сомнений, или был наведен на них посторонним влиянием, – во всяком случае, в нем совершился внезапный и резкий перелом. Он рано начал анализировать свою жизнь, рано стал вглядываться в ожидавшее его будущее, так что в ту цветущую пору, когда испытываются одни радования жизни, он был уже угрюм и нелюдим. За несколько дней до катастрофы он окончательно задумался и затосковал. Приходя по праздникам к сестре, он невпопад отвечал на делаемые ему вопросы, забивался в угол и молчал. Страшно подумать, что в осьмнадцать лет жизнь может опостылеть и привести юношу исключительно к тому, что он думает только о том, как бы поскорее покончить расчеты с нею. Но в наше время господства призраков и этот беспощадный призрак перестает казаться противоестественным. Скука и душевное утомление так велики, что даже возможность иных, более радужных перспектив в будущем искушает очень слабо. Левушка Крутицын был мальчик нервный и впечатлительный; он не выдержал перед мыслью о предстоящей семейной разноголосице и поспешил произнести суд над укоренившимися в семье преданиями, послав себе вольную смерть.
Старик Крутицын глубоко изменился, и я полагаю, что перемена эта произошла в нем именно вследствие постигшего его горя! Он погнулся, волочил ногами и часто вздрагивал; лицо осунулось, глаза впали и были мутны; волосы в беспорядке торчали во все стороны; нижняя губа слегка обвисла и дрожала.
– Здоровья тебе принес! – сказал он мне, стараясь прибодриться, – еще не все для тебя кончено.
Он сел против меня, взял мои руки и, не выпуская их, долго и пристально смотрел мне в глаза. И я уверен, что в эти минуты прошлое всецело пронеслось перед ним, и он любил меня искренно, горячо.
Мы оба молчали. На этот раз, впрочем, молчание было содержательнее, нежели самый содержательный разговор.
Наконец, вдоволь насмотревшись, он встал и произнес:
– Ты, помнится, в былое время спрашивал меня о результатах, каких я достиг. Результаты – вот они! Дряхлая развалина и погибший сын!
С этими словами он безнадежно-тоскливо покачал головой и, пошатываясь, пошел из комнаты.
Больше мы не видались.