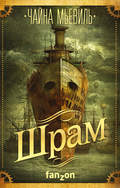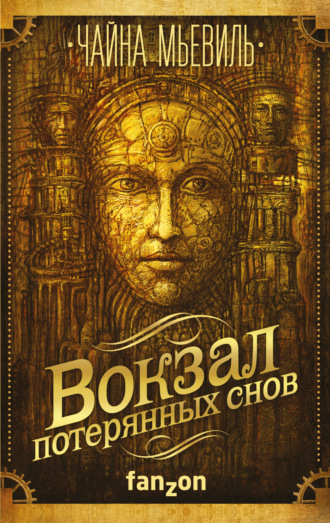
Чайна Мьевиль
Вокзал потерянных снов
Лин в ужасе, спотыкаясь, ощупью пятилась назад, пока он медленно приближался к ней. Ее хитиновый головной панцирь нервно подрагивал. Господин Попурри подкрадывался к ней, как охотник.
– Итак, – сказал он одним из осклабившихся человечьих ртов, – по-вашему, какая из моих сторон самая лучшая?
Глава 5
Айзек ждал, глядя в лицо гостю. Гаруда стоял молча. Айзек видел, что тот собирается с мыслями.
Гаруда произнес хриплым голосом:
– Вы ученый. Вы… Гримнебулин.
Ему было трудно выговорить имя. Гласные и согласные звуки, словно у говорящего попугая, исходили прямо из глотки, губы же оставались неподвижны. Айзек всего дважды в жизни разговаривал с гарудами. Один из них был путешественник, который до этого долго учился произношению человеческих звуков; другой – студент, член небольшой гарудской общины, который родился и вырос в Нью-Кробюзоне и был воспитан на городском диалекте. Оба они говорили не так, как люди, но в то же время их речь не была настолько варварской, как речь этого огромного человека-птицы. Айзек не сразу понял, что тот сказал.
– Да, это я. – Он протянул руку и заговорил медленно. – Как вас зовут?
Гаруда надменно взглянул на человеческую руку, а затем стиснул ее в слабом до странности рукопожатии.
– Ягарек…
Он сделал пронзительное ударение на первом слоге. Большое существо помолчало, неловко переминаясь с ноги на ногу, а затем снова заговорило. Гаруда повторил свое имя, но на сей раз добавив к нему замысловатый суффикс.
Айзек кивнул:
– Это все ваше имя?
– Имя… и титул.
Айзек удивленно приподнял бровь:
– Значит, я нахожусь в присутствии благородной особы?
Гаруда непонимающе уставился на него. Наконец он произнес медленно, не отводя взгляда:
– Я Слишком Абстрактный Индивидуалист Ягарек, Которого Не Следует Уважать.
Айзек удивленно заморгал и потер подбородок:
– Хм… хорошо. Простите меня, Ягарек, я не знаком с… ну, с… почетными титулами гаруд.
Ягарек медленно покачал большой головой:
– Вы скоро поймете.
Айзек предложил Ягареку подняться наверх, и тот последовал за ним, медленно и осторожно, оставляя на деревянных ступенях царапины от огромных когтей. Однако Айзеку не удалось уговорить его присесть, что-нибудь съесть или выпить.
Гаруда стоял перед письменным столом, в то время как хозяин дома сидел и смотрел на гостя снизу вверх.
– Итак, – сказал Айзек, – зачем вы сюда пришли?
Ягарек снова несколько секунд собирался с силами, прежде чем заговорить:
– Я прибыл в Нью-Кробюзон, потому что здесь есть ученые.
– Откуда вы?
– Из Цимека.
Айзек тихо присвистнул. Так и есть, гаруда проделал огромный путь. По меньшей мере тысячу миль – через суровую, выжженную землю, через сухой вельд, через моря, болота и степи. Должно быть, Ягареком двигала какая-то одержимость.
– Что вам известно о нью-кробюзонских ученых? – спросил Айзек.
– Мы знаем об университете. О науках и промышленности, которые развиваются здесь, как нигде больше. О Барсучьей топи.
– И откуда же вы все это узнали?
– Из нашей библиотеки.
Айзек в изумлении открыл рот.
– Простите, – сказал он. – Я думал, что вы кочевники.
– Да. Библиотеку мы возим с собой.
И, к растущему удивлению Айзека, Ягарек рассказал о библиотеке Цимека. Об огромном клане библиотекарей, которые укладывали в свои дорожные сундуки тысячи томов, перевязывая их ремнями, и затем по двое поднимали сундуки в воздух, отправляясь на поиски пищи и воды в вечное и суровое цимекское лето. Там, где они приземлялись, раскидывался палаточный городок, и толпы гаруд из окрестностей собирались в этом огромном импровизированном учебном центре.
Библиотеке было несколько сотен лет, в ней хранились рукописи на бесчисленных языках, мертвых и живых: рагамоль – язык, от которого произошел нью-кробюзонский диалект; хотчи; феллид и южноводяной; верхнехеприйский и множество других. Там даже имелся кодекс, с нескрываемой гордостью заявил Ягарек, написанный на тайном диалекте рукохватов.
Айзек ничего об этом не знал. Ему было стыдно за собственное невежество. Его прежнее представление о гарудах было подорвано. К нему явилось отнюдь не просто горделивое дикое существо.
«Пора мне покопаться в собственной библиотеке и узнать побольше о гарудах. Жалкий неуч!» – упрекал он себя.
– Наш язык не имеет письменности, но с детства мы учимся писать и читать на многих других языках, – сказал Ягарек. – Мы покупаем книги у путешественников и торговцев, многие из которых бывали в Нью-Кробюзоне. Некоторые из них родом из этого города. Это место, которое нам хорошо известно. Я читал о нем правдивые и вымышленные истории.
– В таком случае ты победил, парень, потому что я ни черта не знаю о том месте, откуда ты родом, – уныло признался Айзек.
Наступило молчание. Айзек снова взглянул на Ягарека:
– Но ты до сих пор не рассказал мне, зачем ты здесь.
Ягарек отвел глаза, посмотрел в окно. Внизу бесцельно сновали баржи.
В скрипучем голосе Ягарека трудно было различить какие-либо эмоции, но Айзеку в нем послышались нотки отвращения.
– Две недели я, как преступник, переползал из одной норы в другую. Я собирал газеты, слухи, информацию, и все это привело меня в Барсучью топь. А в Барсучьей топи мне указали на тебя. Вопрос, который привел меня к тебе, был таков: «Кто может изменять силы материи?» – «Гримнебулин, Гримнебулин», – говорили мне все. «Если у тебя есть золото, – говорили они, – он будет с тобой возиться, или если у тебя нет золота, но он тобой заинтересуется, или ты ему не интересен, но он тебя пожалеет, или если ему просто что-то взбредет в голову». Они сказали, что тебе известны тайны материи, Гримнебулин. – Ягарек в упор посмотрел на Айзека. – У меня есть золото. Я буду тебе интересен. Пожалей меня. Я прошу о помощи.
– Скажи, что тебе надо, – сказал Айзек.
Ягарек снова посмотрел мимо него:
– Быть может, ты когда-нибудь летал на воздушном шаре, Гримнебулин. Смотрел вниз, на крыши домов, на землю. Я с детства привык высматривать с неба добычу. Гаруды – охотники. Мы берем луки, копья и длинные кнуты и высматриваем птиц в небе и зверей на земле. Такие уж мы, гаруды. Мои ноги приспособлены не для того, чтобы ходить по вашим полам, а для того, чтобы схватить маленькое тельце и разорвать его на части. Чтобы держаться на стволах сухих деревьев и высоких скалах между небом и землей.
Речь Ягарека была поэтична. Он говорил запинаясь, но говорил на языке тех сказаний и историй, которые он читал; это была неестественно витиеватая речь гаруды, который изучал человеческий язык по старинным книгам.
– Уметь летать – это не роскошь. Это то, что делает меня гарудой. У меня мурашки бегут по коже, когда я смотрю вверх, на крыши, чувствуя себя словно в ловушке. Я хочу взглянуть на этот город сверху, прежде чем я покину его, Гримнебулин. Я хочу взлететь, и не один раз, а когда пожелаю… Я хочу, чтобы ты вернул мне способность летать.
Ягарек расстегнул плащ и отбросил его на пол. Посмотрел на Айзека со стыдом и вызовом. Айзек опешил.
У Ягарека не было крыльев.
К его спине была приторочена хитроумная рама, состоящая из деревянных распорок и кожаных ремней, которые глупо болтались, когда он поворачивался. За плечами висели две огромные доски, торчавшие над головой и спускавшиеся на петлях до самых колен. Они изображали собой костяк крыльев. Между ними не было ни натянутой кожи, ни перьев, ни даже ткани; они не были приспособлены для планирования в воздухе. Это была всего лишь маскировка, уловка, бутафорская подпорка, на которой нелепо висел плащ Ягарека, чтобы казалось, будто у него есть крылья.
Айзек протянул к ним руку. Ягарек напрягся, но потом собрал все свое мужество и дал Айзеку их потрогать.
Айзек в изумлении покачал головой. На спине Ягарека он заметил жуткий рубец, но тут гаруда резко повернулся к нему лицом.
– За что? – выдохнул Айзек.
Лицо Ягарека медленно исказилось, а глаза превратились в плачущие щелки. У него вырвался пронзительный и совершенно человеческий стон, который вскоре перерос в грустный воинственный крик пернатого хищника – громкий, монотонный, печальный и одинокий. Айзек в тревоге смотрел на Ягарека, а стон тем временем превратился в простой и понятный крик.
– За мое преступление! – вскричал Ягарек. Он помолчал с минуту, а затем снова спокойно сказал: – За мое преступление.
Он отстегнул от спины громоздкую деревянную штуковину, и та с глухим стуком упала на пол.
Ягарек стоял голым по пояс. Тело его было стройным, красивым, крепким и поджарым. Без фальшивых крыльев, которые горой возвышались за спиной, он казался маленьким и слабым.
Он медленно повернулся, и у Айзека перехватило дыхание, когда он увидел шрамы.
Две длинные, глубокие раны на лопатках Ягарека не зарубцевались толком, из них торчало красное, словно ошпаренное, мясо. По обеим сторонам спины протянулись полоски искалеченной ткани длиной в полтора фута и до четырех дюймов шириной. Лицо Айзека исказилось от жалости: рваные дыры были крест-накрест иссечены грубыми и кривыми порезами, и Айзек догадался, что крылья были отпилены. Их отрубили не одним коротким ударом, а долго растягивали эту пытку. Айзек содрогнулся.
Едва прикрытые суставы костей двигались и сгибались; нелепо выставленные напоказ мускулы напрягались.
– Кто это сделал? – переведя дыхание, спросил Айзек.
«Легенды правдивы, – подумал он. – Цимек – это дикое место».
Прежде чем ответить, Ягарек долго молчал.
– Я… я это сделал.
Сначала Айзек подумал, что ослышался.
– Что ты имеешь в виду? Как, черт возьми, ты мог?..
– Я сам наложил на себя наказание. – Ягарек перешел на крик. – Это справедливо. Я сам это сделал.
– Это что, блин, за наказание такое? Мать твою, черт, что могло… Что такого ты натворил?
– Ты что, Гримнебулин, смеешь судить о гарудском правосудии? При таких словах мне невольно приходит на ум мысль о переделанных…
– Не пытайся все перевернуть! Ты совершенно прав, мне не нравятся законы этого города… Я только пытаюсь понять, что с тобой произошло…
Ягарек вздохнул, совсем по-человечески опустив плечи. Наконец он заговорил тихо и с трудом, как будто исполняя неприятную обязанность:
– Я был слишком абстрактным. Я не заслуживал уважения. Это… было безумие… Я был сумасшедшим. Я совершил гнусный поступок…
Слова его перешли в птичьи рыдания.
– Что ты такого наделал? – Айзек приготовился услышать какую-нибудь леденящую кровь историю.
– Этот язык не способен выразить моего преступления. На моем языке… – Ягарек на мгновение запнулся. – Я попробую перевести. На моем языке говорили… и они были правы… что я был виновен в похищении выбора второй степени… похищение выбора второй степени… при крайнем неуважении.
Ягарек снова не отрываясь смотрел в окно. Он стоял, высоко подняв голову, но не хотел встречаться взглядом с Айзеком.
– Вот поэтому меня и назвали Слишком Абстрактным. Поэтому я и не заслуживаю уважения. Вот кто я теперь такой. Я больше не Реальный Индивидуальный и Уважаемый Ягарек. Его больше нет. Я уже называл тебе свое имя и имя-титул. Я Слишком Абстрактный Ягарек, Которого Не Следует Уважать. Им я и останусь навсегда.
Айзек покачал головой, а Ягарек медленно опустился на краешек кровати. На лице его появилось отчаяние. Прежде чем заговорить, Айзек долго смотрел на него.
– Я хочу тебе сказать… – начал Айзек. – На самом деле я не… м-м-м… У меня много клиентов, которые… не совсем в ладах с законом, скажем так. Так вот, не стану утверждать, что понимаю, в чем состав твоего преступления, но в конечном счете это не мое дело.
Айзек говорил медленно и вдумчиво, однако мысли витали уже где-то далеко.
– Но твоя проблема… меня заинтересовала. – В его сознании уже завертелись формулы приложения сил и векторов энергий, фемтоморфических резонансов и энергетических полей. – Сделать так, чтобы ты взлетел, не очень сложная задача. Воздушные шары, управление силовыми полями и прочая дребедень. Не так сложно добиться, чтобы ты взлетел несколько раз. Но ты ведь хочешь лететь туда, куда тебе вздумается, без посторонней помощи, так ведь?
Ягарек кивнул. Айзек потер подбородок.
– Черт!.. Да… пожалуй, эта задачка будет… поинтересней.
Айзек уже начал погружаться в вычисления. Одна часть его разума – романтическая – напоминала, что у него не запланировано никаких дел на ближайшее время, так что он может полностью окунуться в исследовательскую работу. Свое дело сделала и другая – прагматическая – часть разума, принявшая во внимание важность и срочность этого неординарного исследования. Парочка плевых анализов соединений – с ними он может тянуть бесконечно; полуобещанный синтез одного-двух эликсиров – от этого можно легко отвязаться; остается только… его собственная исследовательская работа над искусством водяных. Но и это можно отложить.
«Нет, нет, нет! – вдруг возразил он сам себе. – Мне не придется откладывать эту работу… Я же могу включить ее в новое исследование! Это все относится к частицам, которые ведут себя неправильно, валяют дурака… Жидкость, сохраняющая форму сама по себе, твердая материя, заполняющая собой пустоту… Здесь должно быть что-то… какой-то общий знаменатель…»
Некоторым усилием он вернул себя назад, в лабораторию, и увидел, что Ягарек с нетерпением уставился на него.
– Меня заинтересовала твоя проблема, – просто сказал он.
Ягарек немедленно полез в карман. Вынул полную горсть неровных и грязных золотых самородков. У Айзека глаза полезли на лоб.
– Ну что ж… спасибо. Я, конечно, приму деньги на некоторые расходы… Почасовая оплата и тому подобное…
Ягарек протянул все золото Айзеку.
Тот едва удержался, чтобы не присвистнуть, когда взвесил плату на своей руке. Хоть это и было его недостойно, Айзек завороженно смотрел на золото. Такого сокровища он не видел за всю свою жизнь; этого бы хватило, чтобы покрыть многие научные издержки и потом еще жить спокойно несколько месяцев.
Ягарек – не делец, это очевидно. Он мог бы предложить треть, четверть этого, и все равно любой в Барсучьей топи нанялся бы к нему с радостью. Ему не следовало отдавать все; надо было сохранить бо́льшую часть у себя и помахивать ею перед носом ученого в случае, если интерес начнет остывать.
«А может, он и припрятал бо́льшую часть», – подумал Айзек, и глаза его расширились еще больше.
– Где мне тебя искать? – спросил Айзек, все еще глядя на золото. – Где ты живешь?
Ягарек помотал головой и ничего не ответил.
– Ладно, я сам как-нибудь разыщу…
– Я буду приходить к тебе, – сказал гаруда. – Каждый день, каждые два дня, каждую неделю… Я хочу быть уверен, что ты не забыл о моем деле.
– Уверяю, об этом можешь не беспокоиться. Ты действительно не хочешь дать мне адрес, чтобы я мог связаться с тобой?
– Я не знаю, где я буду, Гримнебулин. Мне надо держаться подальше от этого города. Он преследует меня. Я должен постоянно перемещаться.
Айзек беспомощно пожал плечами. Ягарек встал, собираясь уходить.
– Ты понял, чего я не хочу, Гримнебулин? Я не хочу, чтобы мне приходилось каждый раз принимать какие-то снадобья. Я не хочу напяливать на себя всякие хитроумные штуковины. Я не желаю совершить один восхитительный полет в облака, а затем вечно прозябать на земле. Я хочу, чтобы ты помог мне отрываться от земли так же легко, как ты переходишь из одной комнаты в другую. Ты можешь сделать это, Гримнебулин?
– Я не знаю, – медленно ответил Айзек. – Но думаю, что да. Ручаюсь, лучшего, чем я, тебе не найти. Я не химик, не биолог и не лекарь… Я дилетант, любитель. Думаю, что я…
Айзек замолчал и усмехнулся. И заговорил с большим жаром:
– Думаю, что я – перекресток всех направлений мысли. Как вокзал на Затерянной улице. Тебе он знаком?
Ягарек кивнул.
– Его нельзя не заметить, верно? Такая махина. – Айзек похлопал себя по животу, продолжая аналогию: – Там пересекаются все линии – Южная, Правая, Оборотная, Главная и Сточная; все поезда проходят через этот вокзал. Так и я. Это моя работа. Вот такой вот я ученый. И мне кажется, это то, что тебе нужно. Вот увидишь, это то, что тебе нужно.
Ягарек кивнул. Его хищное лицо было совершенно жестким, непроницаемым. По нему нельзя было угадать эмоции. Приходилось расшифровывать его слова. Не по лицу, не по глазам, не по его манере держаться (все столь же горделивой и надменной) Айзек прочел отчаяние. Он прочел отчаяние в его словах.
– Будь ты хоть дилетантом, хоть лжеученым, хоть мошенником… только верни меня в небо, Гримнебулин.
Ягарек нагнулся и поднял уродливые фальшивые крылья. Без видимого стыда, несмотря на недостойную внешность сего действа, пристегнул их к спине. Накинул на плечи огромный плащ и стал тихо спускаться по лестнице.
В задумчивости опершись на перила, Айзек глядел вниз на пыльный зал. Ягарек прошагал мимо неподвижной конструкции, мимо стопок бумаги, стульев, меловых досок. Лучи света, пробивавшиеся через прорехи в старых стенах, исчезли. Солнце уже висело низко, за домами, стоящими напротив бывшего склада; свет его не проникал сквозь нагромождения кирпичных зданий, а скользил во все стороны над древним городом, освещая невидимые склоны гор Пляшущий башмачок, Хребтовый пик и утесы перевала Кающихся, прочерчивая неровную линию горизонта, которая растянулась на многие мили к западу от Нью-Кробюзона.
Ягарек открыл дверь и шагнул во тьму улицы.
Айзек работал по ночам.
Как только Ягарек ушел, Айзек открыл окно и выкинул длинную красную веревку, привязанную другим концом к вбитым в кирпичную стену гвоздям. Он переставил тяжелый вычислитель с середины письменного стола на пол. Слетев с полки, кипа перфокарт рассыпалась по полу. Айзек чертыхнулся. Он сгреб их в кучку и положил обратно. Затем перетащил на стол пишущую машинку и начал составлять список. Временами он вскакивал и размашистым шагом направлялся к самодельным книжным шкафам или рылся в куче книг на полу, пока не находил нужный том. Затем клал его на стол и листал с конца, разыскивая библиографию. Он тщательно перепечатывал все до мельчайших деталей, стуча двумя пальцами по клавишам машинки.
По мере того как он работал, критерии его плана расширялись. Он видел все больше и больше перспектив, и глаза его загорелись, поскольку он начал осознавать потенциал этого исследования.
В конце концов он перестал писать и в задумчивости откинулся на спинку стула. Схватив несколько чистых листов бумаги, Айзек набросал на них разные проекты действий.
Вновь и вновь он возвращался к одной и той же модели – треугольнику, в центре которого прочно обосновался крест. Он не мог сдержать улыбки.
– Мне это нравится… – прошептал он.
В окно постучали. Айзек встал и подошел к окну.
Снаружи на Айзека, широко ухмыляясь, смотрела багровая идиотская мордочка. Из выдающегося подбородка торчали два коротких рога, линию волос неубедительно имитировали костяные наросты и складки. Над радостно-уродливым оскалом моргали водянистые глаза.
Айзек распахнул окно навстречу быстро убывающему свету. Послышалась ворчливая перекличка гудков промышленных барж, которые стремились обогнать друг друга на просторах Ржавчины. Существо взобралось на оконный карниз и, схватившись за края окна шишковатыми руками, впрыгнуло в открытый проем.
– Здрась, капитан! – затараторило оно. У него был сильный и странный акцент. – Увидеть ваш – как ее – красный штуковина… подумать: пора наведаться к мой хозяин. – Он подмигнул и глуповато гоготнул. – Што желаити, капитан? К вашим услугам.
– Добрый вечер, Чай-для-Двоих. Я звал тебя.
Существо захлопало красными крыльями летучей мыши.
Чай-для-Двоих был человеком-вирмом. Вирмы – существа с бочкообразной, как у нахохлившейся птицы, грудной клеткой, толстыми, как у людей-карликов, руками, растущими из-под уродливых функциональных крыльев, – перепахивали небо над Нью-Кробюзоном. Руки, которые, словно вороньи лапы, торчали из нижней части их приземистых тел, заменяли им ноги. В помещении они могли сделать несколько неуклюжих шагов, балансируя передними лапками, но все же предпочитали килевать над городом, пронзительно крича, падая вниз и выкрикивая бранные слова в адрес прохожих.
Вирмы были умнее собак или обезьян, однако явно уступали в этом человеку. В их среде процветали скудоумные сортирные шуточки, балаганные развлечения и подражания; имена друг для друга они без всякого понимания брали из популярных песен, каталогов мебели и разрозненных учебников, которые едва могли прочесть. Насколько знал Айзек, сестру Чая-для-Двоих звали Бутылочным Горлышком, а одного из его сыновей – Чесоткой.
Вирмы обитали в сотнях и тысячах укромных застрех, на чердаках, в пристройках и за рекламными щитами. Большинство из них выбирали себе жилище на краю города. Гигантские свалки и мусорные кучи в окрестностях Каменного панциря и Травяной отмены, канализационные стоки у реки в Грисском меандре – все кишели вирмами, ругающимися и хохочущими, пьющими воду из заболоченных каналов, срущими и в небе, и на земле. Некоторые, как Чай-для-Двоих, помимо этого еще подрабатывали. Если на крыше развевался шарф или рядом с чердачным окном на стене появлялись каракули мелом, значит, кому-то зачем-нибудь понадобился вирм.
Айзек порылся в кармане и извлек шекель.
– Хочешь это получить, Чай-для-Двоих?
– Спрашивашь, капитан! – воскликнул Чай-для-Двоих. – Берегись, там, внизу! – добавил он и громко испражнился. Помет рассыпался по улице. Чай-для-Двоих загоготал.
Айзек протянул ему список, свернутый в трубочку.
– Отнеси в университетскую библиотеку. Знаешь, где это? За рекой. Она открыта допоздна, ты должен успеть до закрытия. Отдай библиотекарю. Я поставил свою подпись, так что у тебя не должно возникнуть проблем. Там тебя нагрузят книгами. Сможешь принести их мне? Они довольно тяжелые.
– Нет проблем, капитан! – Чай-для-Двоих расправил грудь, как петух. – Большой, сильный парень!
– Отлично. Если провернешь все за одну ходку, я подкину еще немного бабок.
Чай-для-Двоих сгреб в охапку список и, издав какой-то дикий ребяческий крик, собрался было лететь, но Айзек ухватил его за край крыла. Вирм удивленно обернулся:
– Проблемы, хозяин?
– Нет, нет…
Айзек в задумчивости медленно раскрыл, а затем сложил руками массивное крыло Чая-для-Двоих. Под этой подвижной красной кожей – бугристой, рябой и жесткой, как шкура животного, – прощупывались специально предназначенные для полета мускулы. Их движения были удивительно экономны. Айзек обвел крылом полный круг, чувствуя, как натягиваются мускулы, совершая движения, разрезающие воздух и подминающие его под вирма. Чай-для-Двоих захихикал.
– Щекотно, капитан! Проказник! – вскрикнул он.
Едва удержавшись, чтобы не затащить Чая-для-Двоих к себе, Айзек потянулся за бумагой. Он уже представлял крыло вирма в математическом выражении, в виде простых плоскостных составляющих.
– Чай-для-Двоих… знаешь что… Когда вернешься, я дам тебе еще шекель, если позволишь сделать несколько гелиоснимков и провести над тобой пару экспериментов. Это всего на полчасика. Ну как, согласен?
– Кр-р-расота, капитан!
Чай-для-Двоих вскочил на подоконник и шагнул в вечерние сумерки. Айзек прищурил глаза, изучая плавное движение крыльев, глядя, как эти сильные мускулы, присущие только пернатым существам, уносят в небо не меньше восьмидесяти фунтов извивающейся плоти и костей.
Когда Чай-для-Двоих скрылся из виду, Айзек сел и составил еще один список, на сей раз наскоро, от руки.
«Исследование» – написал он в заглавии страницы. Затем чуть ниже: «Физика; тяготение; силы/плоскости/ векторы; ЕТП». А еще чуть пониже вывел: «Полет: 1) естественный, 2) волшебный, 3) химико-физический, 4) комбинированный, 5) иной».
Наконец заглавными буквами с подчеркиванием он написал: «РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛЕТА».
Айзек откинулся назад, но не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы с размаху вскочить на ноги. Он рассеянно что-то напевал. Его охватило безрассудное возбуждение.
Он стал рыться в поисках огромного старинного тома, который и выудил вскоре из-под кровати. С тяжким стуком водрузил его на письменный стол. Обложка была украшена витиеватым тиснением фальшивого золота.
«Бестиарий потенциальной мудрости: разумные расы Бас-Лага».
Айзек погладил обложку классического труда Шакрестиалчита, переведенного водяным Лаббоком и адаптированного сто лет назад Бенкерби Карнадином, торговцем, путешественником и знатоком Нью-Кробюзона. Творение, постоянно переиздаваемое, породившее множество подражаний и до сих пор непревзойденное. Айзек заложил пальцем букву «Г» в буквенном указателе и, пролистнув страницы, отыскал восхитительный акварельный рисунок с изображением пернатого народа Цимека, который предварял статью о гарудах.
Поскольку в комнате стало уже совсем темно, Айзек зажег газовую лампу и сел за стол. Где-то на востоке в прохладном небе, тяжело махая крыльями, Чай-для-Двоих нес болтавшийся мешок с книгами. Он видел яркий отблеск газового рожка Айзека, а прямо возле окна, снаружи – разливающий бледный свет уличный фонарь. В его лучах, словно электроны, постоянным потоком крутился рой ночных насекомых, случайно попадавших иногда в щель разбитого стекла и сгоравших в его пламени. Обугленные останки усеивали дно стеклянного колпака.
В этом пугающем городе фонарь был маяком, сигнальным огнем, который вел вирма над рекой в хищной ночи.
В этом городе те, кто похож на меня, совсем не такие, как Я. Однажды я уже совершил ошибку (я был усталым, напуганным и не надеялся на помощь), усомнившись в этом.
Я искал убежище и ночлег, надеясь найти еду, тепло и временное отдохновение от пристальных взглядов, которые преследовали меня на каждом шагу, по какой бы улице я ни направился. Я увидел едва оперившегося птенца, который беззаботно носился по узким проулкам между бесцветными домами. У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Я окликнул его, моего юного сородича, на языке пустыни… Он уставился на меня, а затем распустил крылья, открыл клюв и расхохотался каким-то нестройным смехом.
Он обругал меня на своем каркающем зверином диалекте. Глотка его противилась звукам человеческой речи. Я окликнул его, но он, наверное, не понял. Обернувшись назад, он что-то прокричал, и изо всех городских щелей, словно зловредные для всего живого духи, к нему стали подтягиваться многочисленные беспризорные дети человеческой расы. Этот ясноглазый птенец показывал мне разные жесты и кричал вдогонку бранные слова, которые я из-за быстроты речи не смог разобрать. А потом его приятели, эти чумазые хулиганы, эти опасные, доведенные до звероподобного состояния, безнравственные маленькие твари со сплющенными лицами и драными штанами, заляпанными соплями, слизью и городской грязью, эти девчонки в грязных рубахах и мальчишки, одетые в пальто не по размеру, набрали с земли камней и забрасывали меня ими, пока я лежал в темноте, спрятавшись за прогнившей притолокой.
И птенец, которого я не могу назвать гарудой, оказавшийся всего лишь человечишкой с ободранными крылышками и перьями, мой маленький потерянный собрат, тоже бросал камни вместе со своими товарищами, смеялся, разбивая окна над моей головой и называя меня плохими словами.
И когда на мою подушку из облупившейся краски посыпался град камней, я понял, что такое одиночество.
С тех пор я знаю, что мне придется жить в полной изоляции, без всякой отдушины. Что я не смогу поговорить на родном языке ни с одной живой душой.
Я приобрел привычку бродить одиноко после наступления ночи, когда город затихает и погружается в себя. Я хожу как незваный гость, в его солипсистском сне. Я вышел из тьмы и питаюсь тьмой. Ослепительная яркость дикой пустыни становится похожа на легенду, которую я слышал когда-то давно. Я становлюсь ночным существом. Мои представления о жизни меняются.
Я выхожу на улицы, которые извиваются, словно темные реки, текущие меж пещеристых кирпичных скал. Бледно мерцает луна в окружении своих маленьких сверкающих дочерей. Холодные ветры черной патокой сползают со склонов холмов и гор, опутывая ночной город мусорными вихрями. Я хожу по улицам вместе с бесцельно порхающими обрывками бумаги и пыльными метелями; пылинки, словно заблудшие воры, проникают под карнизы и в дверные щели.
Мне вспоминаются пустынные ветры: хамсин, который, подобно бездымному огню, опустошает земли; фен, который, словно из засады, выскакивает из-за раскаленных горных склонов; коварный самум, обманом проникающий сквозь противопесчаные кожаные ширмы и двери библиотек.
В этом городе ветры более унылой породы. Они рыщут, как неприкаянные души, заглядывая в пыльные окна, освещенные газовыми лампами. Мы с ними собратья – городские ветры и я. Мы вместе бродим по улицам.
Мы находили спящих бродяг, прижавшихся друг к другу и застывших, стараясь согреться, словно низшие существа, которых бедность сбросила с эволюционной лестницы вниз.
Мы видели городских ночных мортусов, вылавливающих мертвецов из рек. Привыкшие к темноте милиционеры вытягивали кошками и баграми раздувшиеся тела с глазами, вывалившимися из орбит, в которых застоялась запекшаяся кровь.
Мы наблюдали, как существа-мутанты выползают из канализационных стоков навстречу холодному и тусклому свету звезд, робко перешептываясь меж собой, рисуя планы и оставляя записи на фекальной грязи.
Я садился рядом с ветром и видел перед собой жестокость и зло.
Мои раны и обломки костей болят. Я уже начинаю забывать тяжесть и движение крыльев. Если бы я не был гарудой, я бы помолился. Но я не стану преклоняться пред надменными духами.
Иногда я прихожу к тому складу, где Гримнебулин что-то читает, пишет и чертит; я неслышно забираюсь на крышу и ложусь спиной на шифер. Когда я думаю обо всей энергии его мысли, направленной на достижение полета, моего полета, моего освобождения, боль в истерзанной спине чуть утихает. Когда я лежу здесь, ветер треплет меня сильнее: он чувствует себя преданным. Он знает, что, если я снова обрету свою целостность, у него больше не будет ночного спутника, который бродил с ним по вязким кирпичным топям и мусорным свалкам Нью-Кробюзона. И поэтому, когда я лежу здесь, он наказывает меня, пытаясь внезапным порывом сбросить с лежанки в широкую, вонючую реку. Тугой вздорный ветер хватает меня за перья, предупреждая, чтобы я не покидал его; но я цепляюсь за крышу когтями и позволяю целительным вибрациям мысли Гримнебулина проникать сквозь крошащийся шифер в мое несчастное тело.
Я сплю под старыми сводами грохочущих железных дорог.
Я ем все живое, что попадается на пути, если только оно не сильнее меня.
Я прячусь, как паразит, в шкуре этого древнего города, храпящего, пукающего, урчащего, чешущегося и вздувающегося, который с возрастом становится бородавчатым и сварливым.
Иногда я забираюсь на верхушки огромных-преогромных башен, которые торчат, словно иглы дикобраза, из спины города. Там, в более тонких слоях воздуха, ветры теряют то печальное любопытство, которое присуще им на уровне улиц. Они утрачивают порывистость, с которой бьют по крышам. Возбуждаемые башнями, торчащими над сонмами городских огней – ярко-белых карбидных ламп, чадно-красных жировых светильников, безумно трещащих газовых фонарей и разновеликих дежурных ламп, – ветры ликуют и играют.