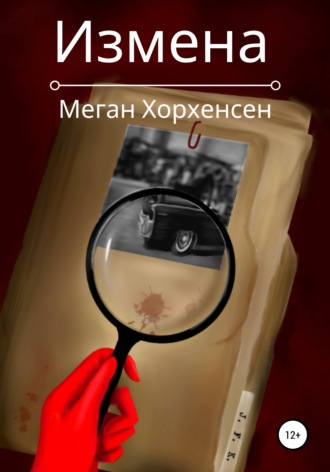
Меган Хорхенсен
Измена
2.5. Семья
Португалия, южное побережье. 7 марта 2004 года.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга…» Если все остальные счастливые семьи похожи на нас, то любопытно, сколько счастливых семей останется в живых через пару суток?
Мари в ответ на шутку посмеивается. Вообще-то, шутки мои ей не нравятся – она их воспринимает слишком серьёзно, а шутки у меня бывают резкими, иногда на грани жестокости. Часто Мари мягко просит не шутить. Но для меня чёрный юмор – отдушина, выплеск злости и раздражения из-за абсурдности ситуации. Конечно, так нельзя, я понимаю, что мои шутки могут быть неприятны. Но ничего поделать с собой не могу – мы все выплёскиваем раздражение на самых близких. Иначе облегчить душу не получается. Видимо, близкий человек должен принимать на себя часть наших настроений.
* * *
В чём-то Мари обычная женщина. Однажды давным-давно, в первые дни нашей любви, ей показалось, что я собираюсь её бросить – тогда мы ещё только притирались друг к другу. Она горько плакала, просила не уходить.
Я увидел, что она меня любит не меньше, чем я её. И с тех пор у нас не было размолвок. Или почти не было. В этом отношении мы – исключение из правил. Даже счастливые семьи иногда поругиваются. Мы же не ругались. Почти ни разу. А когда ругались, то виноват был я и только я – выходил из себя по пустякам, спускал на Мари ненужных собак, выпускал пары. Причина всегда лежала в стороне: нелады на работе… зуб болит… погода подкачала…
Но Мари невероятная женщина. Несколько поползновений к ссоре закончились ничем как раз из-за её реакции. Чего стоило спокойствие Мари, мне никогда не узнать, но после того, как она дважды или трижды не дала ссоре развиться, ссориться стало неинтересно.
Мари – единственный человек, кому я доверяю безоговорочно и безраздельно. Поэтому я не могу излагать дело профессионально. Срываюсь, перепрыгиваю. Волнуюсь как мальчишка. Топчусь-топчусь, а рассказ не двигается. Хотя Мари постепенно узнаёт сведения, необходимые для понимания. И то хорошо.
Сколько в Мари от Глеба? Сколько от мамы? Сколько от мужа, с которым провела долгие годы? От детей? От меня? Сколько только своего, только того, что было даровано природой только ей?
Пока я знаю одно – мы любим друг друга и готовы на всё ради друг друга. К нам не относятся утверждения, будто за дымовой завесой показной заботы о ближнем люди скрывают стремление обеспечить собственное благополучие.
* * *
Когда мы поженились, Мари рассказала, как убили Стаса.
Пулей. Точнее, шестью пулями. В дверь позвонили, он пошёл открывать. Не поглядел в глазок, не спросил, кто там. Открыл дверь, раздались хлопки – шесть тихих хлопков. Стас упал и умер. Обычно дверь открывала сама Мари. Если бы она открыла дверь и в тот раз, то сначала застрелили бы её, а потом Стаса.
Но открыл двери Стас, Мари осталась жива, и мы познакомились за праздничным столом, когда случайно оказались друг против друга во время празднования то ли годовщины свадьбы Глеба, то ли очередной круглой даты его военной службы. На ней был черный свитер и белая брошь. И у неё была мягкая, спокойная улыбка. Мари улыбается далеко не всегда – только у сумасшедших постоянно ровное и прекрасное настроение. Но с тех пор без её улыбки жить мне стало если не невозможно, то очень и очень трудно.
* * *
«…каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Вряд ли где-то в мире есть ещё одна семья, в которой сегодня происходит то же, что с нами… Значит, мы несчастливая семья? Поживём – увидим.
И они жили долго и счастливо и умерли в один день.
Глава третья. Легенда
3.1. Глеб (обыкновенная биография в обыкновенное время)
Предисловие Вадима Шмакова: «Это черновик мемуаров Глеба Сергеевича Голикова, найденный мною на его даче. Несколько рукописных страничек хранились в стареньком письменном столе. Обнаружил я их, копаясь в бумагах по просьбе Натальи Петровны, вдовы покойного. До меня на даче побывали специалисты, забравшие всё, что им показалось достойным внимания, поэтому остаётся загадкой, каким чудом бумаги уцелели среди ненужного хлама: выписанных на карточки слов, конспектов классиков марксизма-ленинизма, газетных вырезок на тему партийных съездов. В записках схематично охвачен весь период военной службы, но упор делается на последний год работы. Видимо, Глеб Сергеевич хотел написать именно о последнем поручении. Скончался он в девяносто третьем году, через год после выхода в отставку. Успел написать мало. Подзаголовки придуманы мною, деление на главы тоже моё. Ниже несколько отрывков из записок Глеба».
«Умных убийц не бывает по определению. Раз человек убивает, значит, он глуп» – броская и ёмкая фраза, согласен. Но, к сожалению, иногда другого выхода не остаётся.
Мне повезло, потому что убивать не приходилось. Пару раз присутствовал на совещаниях, где другие люди, занимающие более важные посты, принимали решения о ликвидации. Но оба раза моё участие ограничивалось невнятным молчанием.
На совещаниях я любил рисовать дерущихся человечков и пиратские рожицы, напоминая самому себе скучающего на неинтересном уроке школьника. А после окончания совещания черновики собирал секретчик.
Не было сомнений, что бумажки тут же сжигаются, однако как-то раз начальник поймал меня в коридоре и скучающим голосом, глядя вдаль поверх головы, поведал, что руководство заинтересовалось моими упражнениями по рисованию, – мол, не представляют ли фигурки беснующихся пиратов моё видение начальства. Возможно, подсознательно я именно так нашу кухню и видел – засилье пиратских рож, вдохновенно режущих друг друга.
Начал я службу лейтенантом, потому что мне удалось поступить в Московский институт иностранных языков – так тогда назывался многострадальный (в смысле переименований) нынешний Московский лингвистический университет. Большая же часть сверстников после окончания школы пошла служить рядовыми, и к моменту окончания учёбы выяснилось, что призывники сорок девятого домой всё еще не вернулись, так как по срокам этот год оказался самым неудачным из всех послевоенных, и солдаты служили шесть лет.
Не успел порадоваться, что избежал долгих лет военной каторги, как меня, вместе с большей частью выпускников института, тоже забрали. Согласия нашего, разумеется, никто не спрашивал, так как выяснением мнения обычного гражданина в те времена не увлекались. Любить родину и выполнять её поручения считалось святой обязанностью. Честно говоря, мы и сами не сомневались в праве родины распоряжаться нашими жизнями.
На пенсию ушёл полковником. Генерала не получил потому, что сначала началась перестройка, затем пришла неразбериха, а затем я был отправлен в отставку – в возрасте шестидесяти лет, на пять лет старше, чем в армии положено.
На первый взгляд это показало, насколько меня ценили, – переслужил. Однако в нашем ведомстве мой возраст считался если не младенческим, то и не пенсионным. Некоторые полковники исправно приходят на работу и в семьдесят – в полном противоречии с уставами и законами о воинской службе. Увольнение в моём возрасте считается, скорее, опалой.
Но меня уволили, когда я перестал слышать сослуживцев, телефонные звонки, доклады и приказания вышестоящих начальников. Попросту говоря, оглох. А глухой разведчик – это нонсенс. Такому даже мышь убить не поручишь. Хотя, как я заметил выше, согласно должностным обязанностям убивать мне не приходилось.
В армии понравилось. Не знаю, чем это объяснить, так как до призыва относился к ней как и вся интеллигенция – называл военных солдафонами и считал эту организацию пустой тратой народных денег (однако своё мнение умело скрывал).
Так уж получилось, что в армии и жену нашёл, и зятя. Жена, Наталья Петровна, работала вольнонаёмной в штабе главного разведуправления. Первый раз побывала замужем неудачно. Муж спился, они разошлись, и Наташа осталась одна с маленькой дочерью по имени Мари. Поэтому у дочки не моё отчество.
С первых дней службы работал в разведке. Набравшись определенного опыта, стал аналитиком. По мере продвижения по службе узнавал всё больше секретов. Довелось поработать за рубежом, причём в те времена, когда советским людям удавалось выехать из страны только по решению ЦК родной партии.
Интересы страны не ограничивались географическими границами, что не удивительно, так как любая уважающая себя держава стремится к упрочению положения в мире, поэтому больше всего за границей было именно армейцев, – как в соседних ГДР или Польше, так и в экзотических алжирах, мали или камбоджах.
Несколько лет служил на Кубе. После первого года, проведённого в одиночестве, разрешили приехать семье. На Кубе провёл самые приятные и беззаботные годы жизни. Даже прислуга была – местная негритянка, как будто бы сошедшая со страниц романа о добропорядочной белой семье, в которой прижилась любимая няня, она же повар, она же уборщица, она же мастерица на все руки, не представляющая себе жизни без хозяев. Наташа бегала по посольским магазинам, весело закупая дефицитные в стране продукты (в дефиците было всё, включая картошку и хлеб). Негритянка готовила обеды и гладила рубашки. Мари училась в посольской школе и поступала в пионеры. По воскресеньям все вместе ездили на пляж, где Мари под моим руководством прилежно училась плавать, а Наташа зорко следила, чтобы я не заводил знакомство с местными барышнями.
Так как работа была связана со стратегической аналитикой, то на самой Кубе мои донесения и доклады никого не интересовали, да и в Москве на них смотрели как на обязательное, но не очень нужное приложение к действительно важным разработкам.
Конкретные схемы моей тогдашней деятельности придётся оставить в стороне, так как они с тех времен не очень изменились, и лучше их не обсуждать. Хотя я и на пенсии, хотя страны, которой я приносил присягу, уже нет, но законы чести остаются в силе, а поэтому не хочется приводить лишние подробности.
* * *
На Кубу я приехал в тот момент, когда о знаменитом октябрьском кризисе шестьдесят второго года стали забывать, поэтому самое интересное рабочее воспоминание относится к покушению на президента Соединенных Штатов Америки.
Нет, в то время я не интересовался ни биографией Кеннеди, ни перипетиями, связанными с этим делом. Я был обычным советским офицером, которого, помимо семейных забот, волновали вопросы денежного содержания, слухи о замене бесполосных сертификатов (которыми выплачивались оклады на Кубе) на гораздо худшие, с синими полосками, продление командировки ещё на год-два и тому подобные вещи, гораздо более важные для советского человека, чем вся мировая политика. Разумеется, в курилках и на дружеских посиделках речь о покушении заходила, однако кампания по повсеместному внедрению кукурузы, из-за которой на родине, по слухам, исчезли хлеб и молоко, вызывала гораздо больше разговоров.
По делу Кеннеди я отправил в Москву сотни материалов, – в основном перехват радиорепортажей, интервью, обзоров на испанском языке. Во Флориде оседали сотни тысяч кубинцев, бегущих из благословенного коммунистического рая, в Калифорнии было много выходцев из Мексики, да и в сопредельных странах чувствовался интерес к событиям. Поэтому на английском языке Москва получала вести прямо из американских столиц, а на испанском сам бог велел собирать информацию нам. Затем интерес центра к делу схлынул, и о Кеннеди временно забыли.
* * *
Через пару лет мы вернулись домой, получили квартиру на последнем этаже кирпичной пятиэтажки в Филях, Наташа вернулась на работу в генштаб, Мари успешно закончила школу и поступила на курсы секретарей-машинисток в Министерство внешней торговли (место блатное, пробить его стоило определённых трудов, но у каждого человека в нашей стране был свой блат, на этом и держались).
Работать Мари не пришлось, она тут же выскочила замуж за Стаса Предельного – тоже офицера разведки, который работал под прикрытием коммерсантом в том самом министерстве и был старше Маришки на дюжину лет. Никакого отношения к их знакомству я не имел. Как к браку отнёсся? Как обычный отец. Ревновал, жалел, понимал, сочувствовал, радовался. Когда родились внуки, возгордился. Всегда защищал дочь в спорах с мамой. Маришка этим хитро пользовалась. С мужем она провела несколько лет в Индии, где он занимался примерно тем же, чем я на Кубе, и где повторилась наша кубинская история – собственный домик, прислуга, весёлая жизнь, разве что вместо одной девчонки в семье были мальчик и девочка.
С зятем никаких проблем не было. Если мои дамы могли и взбрыкнуть, и накричать, и поставить на место, то Стас, как младший по званию, подчинялся безропотно, хотя человеком был тяжёлым, резким, властным.
В семидесятые годы мне пришлось много поездить по миру, но уже в одиночку и только в короткие командировки – Колумбия, Перу, Испания и прочие. Даже в Андорре, каким-то чудом попавшей в поле зрения нашего начальства, побывал.
Из всех дел, которые приходилось вести, то есть заниматься вплотную, анализировать, делать выводы и давать рекомендации по контрдействиям, могу выделить ангольские события семьдесят пятого, китайско-вьетнамский инцидент семьдесят девятого, англо-аргентинскую войну восемьдесят второго. По каждому из этих конфликтов помню чуть ли не наизусть имена, даты, города, номера полков и эскадрилий, и конечно, позже я еще расскажу об этом и о многом другом.
* * *
В начале восьмидесятых мне поручили создать специальное аналитическое бюро, позволив набрать в штат способных мальчишек (некоторым из которых, впрочем, было под сорок лет).
Право на личный подбор подчинённых я затребовал в качестве обязательного условия, хотя такой подход не практикуется даже в гражданских учреждениях, не говоря уже об армии. Однако задача считалась сложнейшей: надо было создать контору, которая сумела бы чётко прогнозировать стратегические действия стран вероятного противника, не ориентируясь на ведомственные интересы главков, ведомств и штабов. Бюро должно было устанавливать истину в кратчайшие сроки на основании минимальных сведений и максимального умения мыслить. А раз так, то требовался коллектив сплочённый, спаянный, умный, получающий удовольствие от работы.
Повезло – начальство проявило неожиданную мудрость и эксперимент с подбором кадров разрешило. Финансирование наладили в считаные дни, остальное шло само собой.
* * *
В людях, как правило, заложено здоровое начало. На свете мало личностей по-настоящему озлобленных и завистливых. Помести человека в изначально тепличные условия, и человек всю жизнь проживёт в любви и согласии с самим собой и окружающим миром.
Вот я и старался наладить работу по-тепличному. Иногда было сложно биться за квартиру для переведенного с Дальнего Востока капитана или за место школьной учительницы для иногородней жены новичка-лейтенанта. Иногда собирал ребят на вечеринки, в походы по родному краю, закрывал глаза на выпивки в разумных пределах, резко обрывал зачатки склок, немедленно избавлялся от потенциальных интриганов. В любых конфликтах отстаивал сторону подчинённых перед начальством. Доходило до угроз хлопнуть дверью и уйти на покой. Ну вот меня и любили «снизу». А «сверху» терпели, потому что результаты бюро давало отменные. Верили ли нам и принимали ли решения на основании наших прогнозов, это другой вопрос. С одной стороны, если бы верили, возможно, и не рухнула бы страна. С другой стороны, когда вся система беспролазно тупа и обречена на гибель, умные аналитики спасти её не в состоянии.
* * *
Последним заданием стало дело, с армией напрямую не связанное. Поручено оно было мне, а не кому-нибудь другому, только потому, что казалось лёгким, как раз для почти пенсионера, а может быть, вспомнили, что в молодости мне уже приходилось работать по делу Кеннеди.
Поручение стало одним из самых любопытных эпизодов моей карьеры. Потому что дело в ходе развития поменяло свой знак на прямо противоположный. Сначала казалось, что речь пойдёт об очередном нудном архивном розыске – раскопках груд пожелтевших реляций во всех закрытых архивах от КГБ до министерства сельского хозяйства. Оказалось, я ошибся.
3.2. Записки Глеба. Недоумение первого взгляда
Итак, через месяц с лишним после так называемого августовского путча 1991 года, меня вызвали к руководству и предложили заняться совершенно скучным, на первый взгляд, делом – подготовить для передачи американцам материалы, которые тем или иным образом касались покушения на Джона Кеннеди в далёком 1963 году.
Задание не удивило – во время службы и не такие приказания приходилось получать. Огорчился, что последней предпенсионной работой станет архивная возня. Но спорить не приходилось, поэтому разработал стратегию процеживания и сортировки архивов. Решил для начала отсеивать документы, которые потенциальному противнику лучше не видеть. Эффектно преподнесённые данные, производящие самое благоприятное впечатление… Сократить лишнее, подчеркнуть наиболее интересные для американцев моменты. Рутина, рутина и ещё раз рутина.
Составил план действий, предоставил начальству, получил добро, приступил к работе.
И вскоре недоумённо задумался.
* * *
Началось с того, что под руку попалась вырезка из американской газеты, добросовестно пересланная кем-то из советского посольства в Вашингтоне в семьдесят шестом году.
«Стало известно, что военврач, майор Джеймс Хьюмс, проводивший вскрытие тела президента Кеннеди, сжёг в камине собственного дома оригиналы протокола вскрытия. На основании этого сенсационного признания Специальный комитет Конгресса США принял решение о новом расследовании гибели президента».
Сама по себе заметка представляет интерес только с точки зрения тупости журналиста и толпы, реагирующей на галиматью. Заинтересовался я статьёй лишь из пробудившегося на старости лет интереса к человеческой психологии.
Захотелось разобраться, где затерялись серьёзные основания для нового следствия, но появилась ерунда о признаниях врача, который в своём камине сжёг важные бумаги?
И тут перед глазами встала невероятная картина – именно эти признания привели к новому расследованию! Наряду с заявлением редакторов журнала LIFE о том, что у них сейфе хранилась любительская киноплёнка, на которой были запечатлены кадры, из которых следует, что Кеннеди после выстрела откидывается назад, что и доказывает, будто бы пуля летела спереди, а не сзади, как утверждается в официальных выводах следствия.
И ничего больше! Только эти две причины побудили конгресс засучить рукава и сесть за изучение обстоятельств покушения спустя годы после завершения первого следствия.
Признание врача в том, что он сжёг протоколы вскрытия тела. Признание редакции журнала, что в редакционном сейфе долгие годы хранилась сенсационная киноплёнка.
То ли откровенная глупость, то ли от чего-то отвлекают внимание.
Иначе, перед тем как утверждать бюджет на новое дорогостоящее расследование, поинтересовались бы, а как протоколы вскрытия к доктору попали? Доктор в одиночку работал и подписывал бумаги? Так даже с замёрзшими на улице бомжами не бывает. И как это доктор умудрился бумаги домой притащить через все препоны? Почему сжёг? Выполнял чей-то приказ? Опять же почему такой странный способ – доктор крадучись бежит домой, разжигает камин, бросает в него бумаги и любуется ровным пламенем! А вдруг ему взбредёт в голову не жечь их, а сохранить? Статейка на уровне загадки для первокурсников журфака: найдите сто признаков того, что заметка длиною в пять строчек лжива.
Про плёнку, из которой явно видно, что пуля попадает спереди, даже говорить неприлично. Нет такого на плёнке. Есть несчастный человек, в голову которого попадает пуля, после чего начинаются конвульсии. Как обычно в таких случаях. Ничего другого на плёнке нет.
* * *
Хорошо, я понимаю. В шестьдесят девятом году журнал LIFE дышал на ладан и судорожно искал любые средства, которые помогли бы выжить. Благодаря байкам о таинственной плёнке, сокрытой в сейфах журнала, LIFE агонизировал ещё два года, после чего еженедельник прекратил существование, и вновь появился лишь в семьдесят восьмом году.
Врача-пенсионера, гордо предъявившего свой камин в качестве доказательства уничтожения протоколов вскрытия, тоже понять можно. Слава, гонорары за интервью.
А вот конгресс понять невозможно! Ни у кого не возникает наводящих вопросов по поводу двух «серьёзных» причин для начала нового следствия!
* * *
И очередная комиссия, назначенная законодательной властью, приступает к делу. Исправно работает за народные деньги три года – с семьдесят шестого по семьдесят девятый (а до этого семь лет длилась перепалка на тему возобновлять ли расследование). И после трёх лет работы комитет конгресса рождает гениальное заключение: возможно, заговор имел место! а, возможно, и не имел!
Никаких новых улик. Совершенно никаких! Те же упоминания доктора, любителя каминов; киноплёнка; таинственные бродяги, мелькавшие вокруг места покушения; выстрелы за шесть секунд и тому подобная дребедень, для опровержения которой не то что трёх лет не требуется, а трёх дней достаточно.
Три года комитету понадобилось, чтобы сделать гениальный по простоте вывод о том, что протоколы вскрытия президентского тела пылятся себе на архивных полках, их никто и не трогал за прошедшие пятнадцать лет. Никто их домой не таскал, в каминах не сжигал. И про голову президента, якобы назад откидывающуюся, тоже правильный вывод – ерунда, нет подобного на плёнке. И много другой пустопорожней болтовни комитетом отметено.
* * *
Только остаётся непонятным, а зачем же Комитет создавали? Зачем три года работали? Чтобы опровергнуть очевидные глупости, придуманные досужими репортёрами? Чтобы конгрессменам да сенаторам было чем заняться? Мне одного взгляда хватило, чтобы убедиться в абсурдности побудительных причин, а они семь лет решали, разбираться ли, а потом три года разбирались, пока к тем же выводам пришли? Однако.
Думал я, думал и решил посмотреть, а как исполнительная власть на возобновление следствия отреагировала? Президентская администрация, министерства, спецслужбы? Несомненно, осудили трату денег законодателями. Несомненно, предупреждали, что нет смысла искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда никакой кошки в комнате нет.
Всё так, да не так! Оказывается, никаких препон возобновлению следствия не ставилось. Абсолютно никаких! Президент, министерство юстиции, ЦРУ только утирались, когда их мордой тыкали, – вы скрываете что-то, следствие проведено из рук вон плохо. Даже не отбивались, мол, не мы следствие проводили, а конгресс. Только вздыхали печально: да, не углядели; да, не заметили; да, может быть, что-то у нас не так получилось.
Что же это получается, спросил я себя. Всегда, без исключений, как только журналисты набрасываются на власть со лживыми обвинениями, власть незамедлительно и резво предъявляет десятки доказательств своей невинности! А вот если обвинения соответствуют истине, тогда власть начинает ужом на сковородке вертеться, непонятными намёками отделываться, двусмысленные фразы произносить.
Значит, говорю себе, виновна власть? Раз ведёт себя в деле Кеннеди именно так, как подобает поступать только в случае виновности? Значит, замешана в грязи? Значит, знает про заговор, про настоящих убийц, но скрывает?
Беру каждое, без исключений, обвинение, внимательно изучаю, и обвинение рассыпается в пыль и прах. Все обвинения – абсурд и досужие выдумки!
Значит, невиновна власть? Раз каждый вывод официального следствия полностью подтверждается?
Но тогда, почему власть не опровергает абсурдные обвинения убедительно и решительно, как и подобает в таких случаях, раз уж алиби налицо?
Зачем власть создает очередную долгоиграющую комиссию, которая будет годами вести новое следствие, придёт к тем же выводам, что и предыдущая, ничего нового не обнаружит, но отвлечёт внимание толпы, состоящей из обывателей, репортёров и мелких городских прокуроров.
От чего отвлечёт внимание? Вот этот вопрос и возник у меня через неделю после начала работы. Тогда я понял, что это дело – не для глухого старика-пенсионера. И вызвал Вадима.





