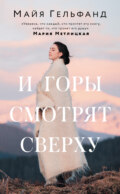Майя Гельфанд
Субботние беседы. Истории о людях, которые делают жизнь интереснее
– Потому что она хочет от вас любви, Майя, а вы ей в этом отказываете.
– А я не обязана ее любить и признавать, что это красиво. Если я это признаю, значит, я сделаю то, что я не хочу делать, и нарушу ваше первое правило.
– Правильно. С ее стороны это крик души, она сама себя не считает полноценной, красивой и привлекательной. Но она вам сообщает о том, что она очень хочет, чтобы вы ее полюбили вот такой. Но это – не полноценные люди, потому что полноценные люди не обращаются к народу с просьбой полюбить их.
– Но они принуждают других людей к любви очень агрессивно.
– Ну не читайте эту х-ню.
– Ладно, ну а как принимать свои профессиональные навыки, которые имеют свойство деградировать или, наоборот, расти?
– Возьмем двух людей. Один из них всем доволен и никуда не стремится. А второй все время пытается что-то улучшить. Кто из них здоровее?
– Второй.
– Неа. Первый здоровее.
– Это почему?
– Потому что он не напрягается и не делает того, что делать не хочет.
– А если человек увлечен своим делом и готов трудиться по двадцать часов в сутки?
– Если он увлечен, то он от этого не устает.
– А если то, что ты делаешь с удовольствием без устали, не приносит доход?
– Вот тут интересно. В моей жизни такого не бывало. Хотя, наверное, бывает и такое. Если профессия человека мало оплачивается, то удовольствие дороже денег.
– А как же ваша позиция, согласно которой работа должна хорошо оплачиваться, иначе досвидос?
– Вот у меня как-то так.
– Но не у всех же так.
– Я знаю одно: когда человек занимается своим делом, то денег, как правило, он зарабатывает достаточно. А иногда даже и много.
– Но от человека не всегда зависит его зарплата. Есть же еще и внешние факторы, рынок, например, диктует цены и оплату труда.
– Но если человек занимается тем, что ему нравится, то он получает удовольствие, которое ценнее и важнее любых денег. Тогда человек живет по средствам, довольствуется тем, что есть, и занимается тем, что любит. Есть люди, которые так живут. Им деньги по барабану.
– Как раз часто происходит обратное, когда человек идет на нелюбимую работу, где больше платят, а в свободное время занимается любимым делом.
– Ну невротики, я же говорю. Кстати, Израиль – это не та страна, куда едут за деньгами. Сюда едут за удовольствиями.
– Или ради идеи.
– Да, или ради идеи. Я когда в Израиле жил, то денег вообще не было. И был счастлив.
– А почему же уехали тогда?
– Дурак был, и больной к тому же.
– А сейчас вы умный и здоровый, пора возвращаться.
– Нет, поздно уже. Хотя я не исключаю, что вернусь. Я думаю об этом. Я скучаю по израильской жизни. Израиль мне дал все, я до сих пор жалею, что уехал.
– Хорошо. Правило четвертое: не отвечать, когда не спрашивают.
– Значит, отвечать только когда тебя спрашивают.
– Ясно. Пятое: отвечать только на вопрос.
– Вот если к тебе подойдет старушка в два часа ночи и спросит, как пройти в библиотеку, надо ей подробно объяснить, как пройти в библиотеку. И не надо ей говорить, что в два часа ночи она не работает, потому что старушка об этом не спрашивала.
– Вот это самое сложное.
– Нет, самое сложное это третье и четвёртое. А самое простое – это шестое: выясняя отношения, говорить только о себе.
– Значит, никого ни в чем не обвинять?
– Да, как минимум. Но всем шести правилам могут следовать только глубокие невротики, которые разочаровались в жизни и хотят умереть. Обычный человек не может так жить, это очень тяжело. Потому что правила-то простые, но выполнять их почти невозможно. Но когда человеку плохо, ему деваться некуда, и приходится жить по этим правилам.
– А вы со своими проблемами разобрались?
– Разобрался, конечно. На самом деле, это единственная причина, почему люди начинают заниматься психологией. Они пытаются решить свои проблемы. И когда я начал выздоравливать, мне стало неинтересно работать психологом. Мне гораздо интереснее читать лекции и писать книги.
Учитывая сложные условия, в которых пришлось брать интервью, я не смогла угостить Михаила своим мороженым из фейхоа. Зато с удовольствием поделюсь рецептом с вами.

Мороженое из фейхоа
Впервые мороженое с кусочками этого фрукта я попробовала в Грузии. Вкуснее и ароматнее мороженого я в своей жизни не ела. Вернувшись домой, я решила поэкспериментировать и вот что у меня получилось.
Ингредиенты:
– 2 желтка
– 250 мл. молока
– 70 гр. сахарной пудры
– 250 мл. жирных сливок
– 100 гр. перетертых плодов фейхоа с сахаром
Способ приготовления:
Смешать желтки с сахарной пудрой. Поставить молоко на водяную баню и разогреть. Добавить желтки в молоко, поварить около десяти минут, постоянно помешивая. Молоко должно загустеть до состояния заварного крема. Снять полученную смесь с огня, остудить.
Взбить сливки. Смешать молочную смесь со сливками. Делать это нужно аккуратно, чтобы сливки не потеряли свою пышность. Добавить фейхоа и перемешать. Отправить будущее мороженое в морозилку в мороженицу.
Теперь самое сложное. Если у вас нет мороженицы, то, чтобы мороженое не кристаллизовалось, его нужно периодически вынимать из морозильной камеры и взбивать миксером. Проделать это нужно два-три раза, а потом оставить его в покое и дать заморозиться.
Оксана Яблонская. История о покорении Америки
Газета «Нью Йорк Таймс» называла ее «могущественной пианисткой», ей рукоплескали лучшие концертные залы мира, выдающиеся композиторы посвящали ей музыкальные произведения. У нее не только виртуозная техника, огромный репертуар, великолепное умение чувствовать музыку, но и железный характер, мощная харизма, жажда жизни и стойкое нежелание петь в хоре. Моя сегодняшняя собеседница —легендарная пианистка, профессор Джульярдской школы искусств и новая репатриантка Оксана Яблонская.

– Оксана, в это трудно поверить, но когда-то ваши руки считали маленькими, а пальцы «бесперспективными». Как такое возможно?
– Такое было мнение, что для того, чтобы играть на фортепьяно, нужно иметь большие руки. У меня действительно маленькие руки, но я научилась ими управлять и даже разработала специальные приемы, которые позволяют играть сложные произведения. Я играю абсолютно все, хотя физически могу достать только одну октаву. Но это меня ничуть не смущало никогда.
– Вам повезло учиться в Центральной музыкальной школе в Москве. Это была лучшая школа для музыкально одаренных детей в Советском Союзе.
– Да, мне очень повезло. Я считаю, что годы, проведенные ЦМШ, были лучшими в моей жизни. Я об этом, кстати, написала в своей книге. Это была настоящая творческая мастерская, где мы не только учились технике игры на инструменте, но импровизации, творческому подходу. И что самое важное, мы оставались детьми.
– А фигура педагога – насколько она важна в становлении музыканта?
– Первый педагог – это вообще самое главное. Он может быть не такой великий музыкант, но он должен уметь находить ключ к детям. Вы знаете, у меня была очень смешная история про то, как я поступала в ЦМШ. Там конкурс был двадцать человек на место. Для прослушивания меня учили детским песенкам про маленькую елочку и все такое. А когда я пришла на экзамен, меня попросили: «Девочка, сыграй нам то, что тебе нравится». И я начала шпарить «Шаланды, полные кефали», да еще и подпевала себе. Публика упала, конечно. Так что поступила я достаточно просто, а вот потом было уже не так весело. Потому что периодически там проводили «чистки» и выгоняли учеников за неуспеваемость. Но образование, конечно, там было просто потрясающее.
– А ваши родители вас готовили к музыкальной карьере?
– Я счастливый человек, потому что у меня были изумительные родители, которые дали огромное количество любви мне и моей старшей сестре. От нас никто ничего не требовал, мы просто любили музыку. Моя сестра начала играть на скрипке, и я ей аккомпанировала на рояле. А потом я поступила в школу, и мы вместе учились. После окончания школы мы поступили в консерваторию. Но мой педагог Анаида Сумбатян однажды сказала: «Ксюточка, запомни: ты еврейка и учишься у армянки. И в этой стране ты никогда не будешь номер один». Я была маленькой девочкой, и тогда не поняла, что она имела ввиду. А когда я подросла и пришло время участвовать в конкурсах и играть большие концерты, то стало очевидно, что вместо меня выставляют русских исполнителей.
– Вы не скрывали того, что вы еврейка.
– Нет, конечно. Я никогда не скрывала. И это приводило антисемитов в ярость. Потому что внешность у меня не ярко выраженная семитская, а имя вообще вполне «свое». Но я всегда подчеркивала свое еврейское происхождение и никогда не чувствовала себя «своей». Я даже по морде била некоторых особо активных антисемитов. И несмотря на то, что я всегда шла первой и претендовала на высшие места, я получала второй гран-при или делила первую премию. Ведь министерству всегда было приятнее привезти победителя титульной нации. Там было очень много внутренних взаимоотношений между членами жюри, о которых я не думаю, что нужно рассказывать. Но так было.
– Но ведь победы на конкурсах не всегда имеют отношение к карьере. Ведь бывает, что человек блестяще выступает, а карьера не складывается.
– В Советском Союзе это было просто. Я, например, была солисткой Московской филармонии, и это было навсегда. Кстати, солистами филармонии были в разные времена Рихтер, Гилельс, Давидович, Ростропович, Коган, Ойстрах. А вот на Западе все намного сложнее. Каждый концерт – это новое испытание. Это как шахматная партия: выиграл или проиграл.
– Но в шахматах есть объективные показатели. А в музыке?
– Есть специалисты, которые оценивают. А вообще надо родиться в правильном месте и в правильное время. Карьера – это вещь очень непредсказуемая, она зависит от массы факторов, от совершенно неожиданных комбинаций. Нужно уметь переживать неудачи и идти дальше. И, конечно, нужно то, что называется мазаль.
– А вы родились вовремя?
– Не знаю.
– Но вы довольны своей карьерой?
– Вы знаете, я делала много ошибок. Но в целом я довольна. Может быть, я бы играла больше, если бы не преподавала. А я хотела совмещать и преподавание, и концертную деятельность.
– Но преподавали вы, на секундочку, в Джульярдской школе искусств. В лучшей музыкальной школе мира!
– Ну да, и я очень выделялась на фоне других педагогов. Потому что в Америке принято считать, что педагог умеет учить, а уметь играть для него необязательно. А я не просто учила, я передавала свой опыт, показывала технические приемы, которые я сама разрабатывала. И это, конечно, было необычно. Я считаю, что главная задача педагога – проявить личность и характер ученика. Заставить его быть оригинальным, заявить о своем собственном характере и суметь показать его в музыке.
– А вот на каком этапе просто хороший исполнитель, даже виртуоз, становится великим музыкантом? Что для этого нужно?
– Жизненные переживания идут в музыку, накладывают отпечаток на исполнение. И звук, и фразы, и темп меняется. И появляется свобода, которая не всегда бывает в молодости. А самое главное, появляется глубина и понимание себя как личности. На сцене нет стыда. Там можно показать все то, что в жизни мы обычно скрываем. Но это приходит с возрастом.
– Ваша многолетняя карьера, если смотреть на нее со стороны, выглядит как идеально сыгранная мелодия: учеба в Центральной музыкальной школе, мировое признание, двадцать пять лет преподавания в Джульярде.
– О, это только так кажется. Сколько раз меня не пускали! Сколько раз присуждали вторые места, когда я знала, что играла лучше! Вот, например. После того, как в Париже я получила вторую гран-при и золотую медаль, мне пришло приглашение на двадцать один сольный концерт во Франции! И меня не пустили. Потому что человек, который преподавал историю КПСС, сказал, что я не выполняю общественную работу.
– А вы ее выполняли?
– Конечно. Я и с транспарантами ходила, и с бригадами играла в госпиталях и в военных частях. То есть я отрабатывала. А потом меня позвали в Италию, и опять не пустили. И в Мадейру, и в Рио де Жанейро, и куда только меня не приглашали. Но из Советского Союза за границу меня не выпускали.
– И что вы делали?
– Играла в Советском Союзе и в странах Восточной Европы. Меня спасало то, что у меня был очень большой репертуар. То есть я могла играть все, что угодно. Поэтому я была востребована. Понимаете, у меня всегда была жажда выучить что-то новое. Жажда к новому и желание учиться – это вообще самое главное, на мой взгляд.
– Несмотря на то, что вас не выпускали на Запад, вы сделали блестящую карьеру в Советском Союзе. Вы были абсолютной звездой, ассистенткой профессора Московской консерватории, записывали пластинки, гастролировали по стране. Почему вы все-таки решили уехать и начать все с нуля?
– Я это сделала из-за Димы (Дмитрий Яблонский – выдающийся виолончелист и дирижер). Мне хотелось для него другой судьбы. Чтобы никто не диктовал, куда ему ездить, где ему жить, чем заниматься, что играть. И слава Богу, он человек мира, говорит на семи языках, гастролирует по всему свету и решает сам, где ему лучше.
– Вам с трудом удалось получить разрешение на выезд, да и то, после вмешательства мировых звезд. Но вы выезжали по израильской визе. Почему все-таки вы уехали в Америку?
– Когда мы еле-еле выползли из Советского Союза, все было очень сложно. Моя мама умерла во время отказа, и мы выехали с Димой, моим папой и урной с ее прахом, потому что я не хотела хоронить ее в Москве. Моя сестра к тому времени уже была в Америке. Мы очень хотели уехать в Израиль. Но моя сестра моя убедила в том, чтобы уехать ближе к ней. Потому что сестра – это мой самый близкий человек.
– И через несколько месяцев вы уже выступали в Карнеги- холле и вас назвали «лучшим секретом, который скрывал СССР».
– Да, мне повезло с менеджером. Меня позвали на прослушивание, и я его, конечно, прошла. И потом состоялся первый концерт.
– А как вы стали профессором самой престижной музыкальной школы в мире?
– Это очень просто. Про меня уже все знали. И меня пригласили просто потому, что у меня было имя и звание ассистентки профессора Московской консерватории. И я очень успешно преподавала в Джульярде на протяжении двадцати пяти лет.
– А это правда, что в последние годы в Америке вы столкнулись, по сути, с тем же Советским Союзом? Когда открыть рот нельзя, проявить инакомыслие нельзя, нужно следовать линии партии?
– Когда я только пришла в Джульярд, там были преподаватели старой закалки. Всегда были разговоры о музыке, о творчестве. Мы рассказывали друг другу байки о великих музыкантах. А потом, со временем, изменилась атмосфера. Она стала более политизированной, более нетерпимой, что ли. А так как петь в хоре я не умею, меня начали потихоньку выживать.
– Как?
– Ну, например, не давать учеников. Но это касалось не только меня. Это касалось всех, кто умел играть и обладал собственным мнением. То есть это касалось старой гвардии. Понимаете, это Америка, там нужно было себя продавать. А я к этому не привыкла. Я могла бы работать до сегодняшнего дня, но у меня такой характер, что я не могу что-то делать вопреки собственным принципам. И я ушла.
– По сути, вам пришлось во второй раз уехать по тем же самым причинам?
– Ну, с некоторыми поправками на время, страну и все прочее.
– И после этого вы решили переехать в Израиль.
– Конечно. Правда, сначала я пожила в Италии, а потом в Швейцарии. Но в итоге все-таки решила сделать алию. Я с 79-го года ежегодно ездила в Израиль. Сначала к своей тете, которая жила в кибуце. А потом просто в гости. Я очень любила Израиль. И когда, наконец, мы приехали в Израиль, и я увидела надпись «Добро пожаловать домой», я, конечно, плакала и чувствовала себя абсолютно счастливой.
– Ваша мечта сбылась?
– Да, конечно.
– А как же так вы из Америки решили переехать в наш провинциальный Израиль?
– Вот все спрашивают и страшно удивляются. Скромно говоря, мы состоялись в Америке и вполне могли бы себе позволить жить, где угодно. Но я сделала совершенно сознательный шаг, потому что шла к нему много лет. Я на сто процентов чувствую себя дома. Хотя здесь очень жарко.
– Но Израиль очень суровая среда выживания, особенно для музыкантов. И несмотря на ваши заслуги, начинать все сначала здесь непросто.
– Конечно. Но я хочу, чтобы израильские музыканты развивались в Израиле. Всем кажется, что нужно куда-то бежать, поступать в какие-то модные знаменитые школы. А можно все то же самое делать и здесь. В Израиле есть очень хорошие педагоги, которые получили классическое образование.
– Вы абсолютно уникальный человек. Потому что, приехав в Израиль после огромной мировой карьеры, вы и здесь вскоре стали очень востребованы.
– Да. Мне 6-го декабря будет восемьдесят лет, и я даже сама не могу представить эту цифру. Но я очень много выступаю, причем играю трудные вещи.
– У вас потрясающая энергия! И она ведь проявилась с самого детства.
– Да, в детстве я была совершенно бешеной. Я страшно дралась, вела себя безобразно. Для моих учителей это был просто кошмар. Но я считаю, что нельзя подавлять творческую энергию ребенка. Сегодня мне бы дали таблетки и превратили в растение. А тогда считалось, что у меня просто такой неугомонный характер. Ведь энергия – это признак таланта. А попытка сделать ребенка удобным убивает его энергию, гасит его потенциал. Поэтому я всегда была сама собой. И, кстати, никогда не стеснялась своего возраста. Потому что я считаю, что не зря прожила свою жизнь, и нечего мне кокетничать.
Специально для Оксаны я испекла рассыпчатое печенье с тхиной и какао-бобами.

Печенье с тхиной и какао-бобами
Помните, в интервью с Михаилом Лабковским я обещала рассказать про это печенье? Вот, рассказываю.
Ингредиенты:
– 100 гр. сливочного масла
– 100 гр. самоподнимающейся муки
– 100 гр. тхины
– 100 гр. сахара или 70 гр. сахарной пудры
– 25 гр. какао бобов
– 1 яйцо
Способ приготовления:
Смешать масло, сахар и муку до получения крошек. Добавить какао бобы и тхину и перемешать. Добавить яйцо и замесить тесто. Отправить тесто в холодильник на полчаса-час.
Слепить из охлажденного теста колобки размером с грецкий орех и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на двадцать минут. Рассыпчатое, нежное печенье с привкусом черного шоколада готово!
Макс Жеребчевский (Моше Ариэль). История советского Диснея
Встретив этого немолодого человека в черной кипе на улице столичного квартала Гило, когда он спешит на молитву в синагогу или покупает продукты в ближайшем супермаркете, вы вряд ли обратите на него внимание. Может быть, вас удивят его глаза: добрые, чуть насмешливые, в которых то и дело загорается детский хулиганский огонёк. Но скорее всего, вы подумаете, что это ничем не примечательный пожилой господин. И будете неправы. Потому что он – не просто обычный пенсионер, а легенда советской мультипликации. Раньше его звали Макс Жеребческий, и он подарил миру Трубадура, Трусливого короля, отважного Рикки-Тикки-Тави и даже создал новый мультипликационный жанр. Сегодня его зовут Моше Ариэль, и он мой собеседник.

– Моше, а это правда, что вашим первым художественным произведением был портрет Сталина?
– Правда. Но до этого я начал лепить слоников, и у меня очень неплохо получалось. А к концу войны, когда изо всех сил трубили о приближающейся победе и раздували фигуру Сталина, я тоже его очень полюбил и от большой любви решил его изобразить. На разделочной доске, на которой мама раскатывала тесто для пельменей, я нарисовал масляными красками его портрет. Мне страшно нравился его мундир и ордена, и я их нарисовал с особой тщательностью. А потом пришел участковый милиционер, и мама с гордостью показала ему портрет. Он жутко посуровел и спросил: «А разрешение есть?». «Какое разрешение?» – мама удивилась. «Это же ребенок нарисовал!». «Это нельзя, это надо убрать!» – велел он. Вот с этого все и началось.
– И вы росли в выдающихся, по советским меркам, условиях.
– Отец был строитель. Он построил квартиру, в которой я родился. Квартира эта находилась между Кремлем и синагогой. И я жил между ними. Всю войну мы провели в Москве, потому что уезжать в эвакуацию было еще опаснее, чем оставаться под бомбежками. Во время войны я не ходил в школу, оставался дома, с мамой. А она, в свою очередь, эта гениальная пианистка со вздорным характером, мало приспособленная к быту, стала управдомом.
– А после окончания войны была художественная школа?
– Да, в конце войны, после портрета Сталина, папа отвел меня в художественную школу для одаренных детей, которую чаще называли «школу для одаренных родителей», потому что там учились дети знаменитостей. Мой папа знаменитостью не был, но он был хорошим строителем и предложил директору сделать ремонт в школе. Вот так меня и приняли. Сначала было трудновато, ведь я много лет пропустил. Но потом догнал программу.
– Ваш отец был коммунистом?
– Да, убежденным. Отец был из простой еврейской семьи. Его отца, раввина и столяра-мебельщика по профессии, зарубили топором на пороге собственного дома. Отцу тогда было шестнадцать лет. Это было страшное потрясение, которое он пронес через всю жизнь. Мать осталась без денег, и ему, шестнадцатилетнему пареньку, пришлось зарабатывать. Он нанялся на строительство железной дороги. А там познакомился с евреями-коммунистами. Они ему объяснили суть коммунизма, он загорелся идеями революции и решил ее устроить.
– А вы прослеживаете связь между тем, что ваш отец увлекся идеями коммунизма, и вы, через много лет, обратились к иудаизму?
– Я усматриваю такую связь, что отец хотел претворить в жизнь то, что написано в святых еврейских книгах. Он не хотел ждать машиаха, как правоверные евреи, он хотел создать рай на земле собственными руками. Он считал, что строительство коммунизма – это и есть подготовка к приходу машиаха.
– Итак, вы закончили художественную школу и поступили во ВГИК на отделение мультипликации. Что было потом?
– Я закончил мультипликационное отделение ВГИКа с отличием и начал искать работу. Мне нужно было работать, ведь я должен был кормить стареньких родителей. Они поженились уже очень немолодыми людьми. Когда я родился, отцу было за шестьдесят. Мама была моложе, конечно, но тоже в возрасте. И я был для них единственным сыном, их радостью и гордостью. И кормильцем тоже.
– А как вы на СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ попали? Это ведь была закрытая каста.
– Меня не ждали, естественно, и никакой возможности туда попасть не было. И тут мне в первый раз повезло. В это время как раз снимали первый широкоэкранный полнометражный мультфильм «Дикие лебеди». Режиссером был Михаил Цехановский, когда-то очень известный художник, а на тот момент дряхлый старик. После блокады Ленинграда он совсем сдал. Художником на картине был мой приятель Натан Лернер. И вот они разругались страшно, и Лернер предложил мне занять его место. А времени уже почти не оставалось, и смета была почти вся истрачена. За меня схватились, как за спасителя. И я ввязался в это дело, сам не понимая, куда я вляпался. Мне пришлось влезть в чужие типажи, когда срок сдачи картины висит, а там еще многое не начато, и деньги почти кончились. Но я был молодой, очень хотел работать. И я взялся за эту работу, хотя все на меня смотрели, как на идиота. А я засучил рукава и стал работать. Короче говоря, мы все успели сделать в срок, работа эта была отмечена, мы получили кучу наград и вот еще кое-что…
– Это афиша вашего фильма?
– Да. Это знаменитый Дом на набережной, и на этой афише впервые появилась моя фамилия. Макс Жеребчевский. Кстати, знаете откуда пошла эта фамилия? Во время крепостного права, еще в девятнадцатом веке, были бандиты, которые воровали детей и продавали богатым помещикам. Вот украли как-то еврейского мальчика лет четырех и продали помещику Жеребцову. И все крепостные этого помещика носили фамилию Жеребцовские. А когда отменили крепостное право, то он, этот выросший мальчик, решил сменить фамилию, чтобы ничто не напоминало о его прошлом. Так он стал Жеребчевским.
– Потрясающе!
– Да, много вспомнить можно… Ну да ладно. Так началась моя карьера. И много чего было…
– А потом были «Бременские музыканты»?
– Это было намного позже. Инесса Ковалевская предложила мне нарисовать этот мультик.
– И это был взрыв.
– Да, это был абсолютный взрыв. Да у меня в жизни сплошные взрывы, начиная со Сталина. А «Бременские музыканты» – это был первый мюзикл с прекрасными текстами, музыкой, голосами. Там все совпало. Там собрались талантливые люди, и получилось такое вот событие. И персонажи получились очень удачные. До сих пор их знают, и даже игрушки продают.
– И они вам не дают покоя до сих пор.
– Ну хорошо получилось же!

– А дальше мне стали предлагать работу. Ливанов моложе меня на три года, мы еще вместе учились в художественной школе и были знакомы. Вот ему захотелось сделать мультфильм, и он предложил мне. И так мы создали продолжение, «По следам бременских музыкантов». И это тоже было чудо, там сошлись одни гении. Вообще в моей жизни было много чудес. Ведь никого не арестовали за портрет Сталина, а могли бы. А потом, когда я был в отчаянном положении, без работы и денег, мне предложили закончить «Диких лебедей» – и это тоже было чудо. «Бременские музыканты» – это тоже был успех огромный. Но я все больше приходил к мысли о том, что я должен делать что-то свое. И тут опять судьба меня привела. Я опять попал в то же положение, без денег и работы, только на этот раз родителей уже не было, зато была семья, которую нужно было кормить. Студия опять не выполняла план, а это грозило большими неприятностями. И я предложил сделать мультфильм на музыку Прокофьева. Мне страшно понравилось название «Мимолетности». И музыка, конечно.
– Это ваша мама привила вам любовь к музыке?
– Мама была пианисткой и певицей. Она училась в Киевской консерватории, ее преподавателем был Рахманинов. Она получила блестящее образование, которое, в итоге, осталось не реализованным. Одно время мама целыми днями, по многу часов, играла на фортепьяно. Работала на износ каждый день, разучивала новую программу, репетировала так, как будто завтра у нее концерт. А никакого концерта не было. Она надрывалась, играла как будто перед ней полный зал публики, а из публики был только я. У нее был колоссальный заряд, который никуда не выстрелил. И она очень страдала. И была очень странной, именно потому, что была очень талантливой. Студия выполнила план, и я, фактически, спас ее. Но кроме того, я создал новый жанр, хотя сам этого еще не понял.
– Вы осуществили свою мечту самостоятельно снять фильм?
– Да. «Мимолетности» – это полностью моя картина, от начала до конца. И мне так эта идея понравилась, что я решил продолжать работать в этом направлении. Я задумал сделать фильм по балету Стравинского «Солдат и черт». А для этого нужно было получить разрешение от начальства. В то время председателем Союза композиторов был Тихон Хренников, большой человек. Он приехал на студию, и это было событие само по себе. Все выстроились около входа, встречали Хренникова, который приехал на своей огромной правительственной машине и занял половину улицы. Он приехал специально, чтобы посмотреть мои «Мимолетности» и дать добро на следующий фильм. После просмотра он вышел и сказал: «Это, конечно, талантливо. Но что вы за музыку выбрали?» Я пытался оправдаться: «Это классика». «Нет, нет, надо что-то посовременнее». Я сначала не понял, о чем речь, а потом начал догадываться, в чем дело. Но я не мог поверить своим догадкам и решил перепроверить. Позвонил Хренникову, говорю: «Тихон Николаевич, мне показалось, что вы уехали не очень довольны. Может, вашу музыку можно использовать?». Тот очень обрадовался: «Пожалуйста! Я вам помогу!» И вот Хренникову я обязан тем, что я здесь.
– Вы не хотели ставить фильм под музыку Хренникова?
– Ну нет, конечно. Хотя он человек талантливый, но страшный карьерист. Я был готов выкручиваться и подстраиваться тогда, когда это было необходимо. Но посвятить этому всю жизнь? Нет. А зачем? Тратить жизнь на Хренникова? Нет уж, спасибо.
– А вам не страшно было уезжать?
– Нет, я знал, что все делаю правильно. Я знал, что кончилось то время, когда можно было создавать «Бременских музыкантов». Все, прошло.
– И как вас отпустили?
– Ой, я еще настрадался перед отъездом! Меня вызвали в КГБ, предложили стучать. Они мне угрожали. Предлагали сотрудничество, иначе, говорят, у вас будут неприятности. А тогда как раз началась война в Афганистане.
– Вас собирались отправить в Афганистан?
– Не меня. Сына.
– И что вы ответили?
– Я просто вышел и все. И я помню, что шел дождь, а я двигался по направлению к метро. Я шел под зонтом, а один из гэбэшников бежал за мной и уговаривал униженно, мокнув под дождем, как собачка: «Вы подумайте, вы зря отказывайте, делаете ошибку. Вас могут не выпустить, а вот сын ваш пойдет воевать…» Он бежал, а я ничего не отвечал.
– Как вы это пережили?
– Время было уже такое, что они ничего не могли сделать. Я не мог стать стукачом, хотя я рисковал жизнью сына. Но с этой сволочью я не мог иметь никаких дел. Ужас. Россия-матушка…
– И в итоге между Кремлем и синагогой вы выбрали синагогу?
– Да. Я понял, что это талантливо!
– Что?
– Еврейская традиция. Это талант и есть. Это настоящее, из этого вышло человечество. Это истина.
– И вы уехали в страну, где нет мультипликации. Что вы делали в Израиле?
– Я работал на учебном телевидении, делал какие-то мелочи. Даже снимался, как артист.
– А разочарования у вас не было?
– Наоборот, очарование.
– От чего?
– От всего. Это же все наше! Мое! Это же хорошо! Я приехал к себе домой. Там меня терпели, а здесь я дома.
– Но мультиков тут нет!
– Ну нет, и что? Ну я и без мультиков проживу.
– Почему вы не уехали в Америку, например?
– Америка меня пугает. Я бы там засох и погиб. Эти огромные студии не для таких, как я.
– А какой вы?
– Ну вот такой. Мне дают работать – я работаю. А пробиваться я не умею. Я просто не хочу об этом думать. Американские мультики совсем другие. Мне они не близки. Мне близки российские мультфильмы. У меня были планы сделать какой-то фильм в Америке… Но я очень быстро понял, что это не мое. Не стану я Диснеем. Да и не надо. Я сделал все, что мог.
– А вы смотрите современные фильмы?
– Нет, не хочу расстраиваться. Мне кажется, они мне не понравятся. Не мое это.
– У вас еще был такой мультфильм «Синяя птица». Я его специально пересмотрела перед встречей с вами. У меня было такое ощущение, что это нарисованный Тарковский. Столько там символизма, глубины.
Синяя птица
– «Синюю птицу» не очень приняли. На студии этот фильм прошел как провал. Мы не дотянули эту работу, она не сложилась как-то… Ливанов тогда был занят, я фактически работал один, а этого было недостаточно.