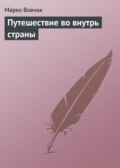Марко Вовчок
Саша
Барыня долго меня донимала, долго гнала; потом он ходить перестал – забывать стала и бросила за него нападки. А барин и рад тому. Он тяжелый на подъем человек: обидеть ли, приласкать ли – трудно ему. Как уж рассердится, то после сколько дней сокрушается: «Зачем беспокоить меня? Делайте себе, что хотите, – меня не тревожьте, пожалуйста! Это все одно, что помешать обедать человеку!» Барыня не такая удалась; она вспыльчива и скорая на все: «Не хочу, не хочу твоего племянника на глаза пускать!» Барин сейчас согласен: «Не вели пускать, душенька: хоть оно и жалко немножко, да свой-то покой всякому дороже».
XV
Родился у меня мальчик, – такой крикунчик был, беспокойный! Хлопот мне было с ним много; ведь я невыклая была, молодая, а тут того нету, другого нету, то попроси у людей, то посоветуйся с людьми. Столько мыслей, столько-то заботы мне было! Кругом все на меня глядят с усмешкой. Кто б ни зашел к нам, кто б ни заглянул, – даже и обидным-то словом не хотят укорить – брезгают. Вот разве ключница не стерпит – крикнет. Только повар ласкал нас, когда пьян бывал. Да, да, и забот было, и хлопот! А на душе тогда тихо как-то стало, тихо…
XVI
Одним вечером, – я жила тогда одна вот в этой самой горенке, где меня замыкают теперь, чтоб дитя криком не докучало людям, – вечером сижу я, слышу – крадется кто-то, двери осторожно отворяет… крадется он: Глянула я и не обрадовалась, и не опечалилась, только мне будто скучнее стало. Исхудал он и измучился. Много говорил тогда, много плакал и ласкал, дитей радовался… «Я, – говорит, – сегодня ведь целый день у вас в сарае прятался, мучился, так видеть тебя желалось…» Я все слышу, все знаю, жаль мне его, только он мне лишний человек совсем.
А он с того вечера опять ходит. Как дитя он любил! Часто я, бывало, гляжу на них обоих, часто. Мальчик очень схож с ним уродился: такие же глаза ласковые и облик весь в его.
Все мне жалче да жалче его, сердцем всем жалко стало. Бывало, я думаю-думаю, – ум за разум заходит. И что это сталось меж нами? Он ли виною, я ли причиною? Станет он, бывало, о своем отце покойнике рассказывать, станет горевать да жаловаться, – и мне отец покойный примстится [примерещится]: суров и тяжел, глаза у него ледяные, а грудь каменная, а голос повелительный. Сед он как лунь и страшен; и гнет он, и клонит детскую головку бессильную все ниже да ниже. А его я все себе дитею представляла, словно он дитя мое, и что рубят тому детищу руку правую. Такая тоска меня брала всегда, а все слушать я любила про его отца покойного: покойник все предо мною застелет тенью своей, и мне жалче станет он, милее…
XVII
Захворал мой мальчик и помер… Что это за жизнь-то наша, господи! Уж и годится ли тосковать так по умершим, как я тосковала? Какая жизнь человеческая? Все-то неладно так, все-то неясно так!.
Он с горя, с печали сам заболел. Пошла я к нему. Рад был он мне, как уж рад! «Пропал бы один, – говорит, – не знал, как мне быть, что мне делать!»
А как в дверь застучали, он задрожал весь: «Кто это? Откуда? Что делать!»
А то за мною пришли: барыня прислала. Пришли и берут меня от него, ведут, а он провожает да плачет.
XVIII
Привели меня, и в другой раз косу отрезали. Теперь за мной велено всем присматривать; а если не время, то меня замыкать приказано. И вот уж три недели я со двора не выходила. Его с той поры не видала я. Повар встречался с ним сколько раз, – кланяется мне, говорит, и очень печален. Через него он мне обновки, деньги присылает.
Томится душа моя, и нигде душа успокою, нигде душа себе приюту не сыщет. Приехала ты – без слов мое сердце облегчила, без ласк поуспокоила. Спасибо, желанная ты моя!
И так схватила Саша, так меня в своих руках крепко сжала! И вдруг обессилела и, словно разбитая, упала около меня. Грусть и мою-то душу сдавила. Обнимаю я ее:
– Усни, – говорю, – усни у меня на коленях!
– Ах, как же уснуть-то мне! – промолвила. – У меня из сердца будто горький ключ бьет, и кипит, и всю душу мою топит!
XIX
Думаю, я, думаю, чем пособить ей и как помочь, да и говорю раз:
– Саша! А схожу-ка я к нему да все разузнаю: веселей нам будет!
– Что ж знать-то? Сходи, коли хочешь, – ответила, – а веселей, видно, не будет!
– Не круши себя, Саша! – упрашиваю. – Ведь он тебя любит, сама говоришь, и ты его любишь, – не горюй. Расскажи только мне, куда идти и как мне узнать его?
– Да ты выйди вечерком на угол. Верно, он там стоит, меня ждет. А узнавай ты его по красе, по виду честному. Белокурый и кудрявый, шинелька черная на нем; а походка у него тихая.
Выждала я времячко – побежала на угол, а прямо навстречу мне он; я сейчас узнала.
– Саша кланяется, – ему шепнула.
Он вздрогнул и ахнул:
– Чья ты? Откуда?
– Я деревенская, – отвечаю.
– Ах, так это ты приехала недавно? Я знаю, все знаю, что там у вас делается, хоть сам и не бываю. Что мне Саша велела?
– Ничего, только кланяется.
– Или уже не любит она меня, что и словечка не нашлось у ней посердечней! Хоть от меня скажи ты ей, что нет мне ни сна ни покоя, что меня разлука сокрушает!
– Да что ж ей делать-то? – говорю ему. – Не ее воля!
– Ах, что ж мне делать! – вскрикнул. – Я б рад украсть ее, да как?
– Как же украсть? Трудно, – говорю, – трудно уж теперь горю пособить.
Если б прежде-то вы порешили чем…
– Да, если б я знал-ведал все муки да все горе, я порешил бы. А то ведь опомниться не успел! Накричали на меня, нашумели, и грозят, и упрекают; с толку сбили меня, отуманили! Что ж Саша говорит?
– Ничего об этом не говорила.
– Ничего!. Сердечная девушка – слава ей! Верно, живется весело и без меня, – тоска не обуяла?