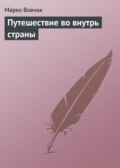Марко Вовчок
Саша
XI
С той поры каждый день я его там видела, каждый день. Сколько раз ведь зарекалась: не пойду я, не хочу, да и сама не знаю, как выйду. А он мне так рад бывал, в глаза мне, бывало, смотрит и все спрашивает: «Любишь ли, Саша?» А я, скажу тебе, я очень его полюбила, очень. Как стали люди замечать да посмеиваться, сначала мне стыдно и горько было, а там – я думаю: что ж, люди смеются, – пускай себе! Я люблю его, я его! Что ж мне о себе думать-то? Думай он. Хорошо ему, весело, что смеются – смейтесь; а обидно ему покажется – сам он знает, что сделать. А я послушаюсь его слова, его приказу. Вот живу я себе и не тужу. Дома мы почти не видались: следили за нами; и вот, бывало, куда пошлют меня – я ему шепну, и сойдемся где-нибудь в глухом переулке, под чужими воротами сядем.
XII
Только раз приходит он встревоженный такой.
– Саша! – шепчет мне. – Дядя и тетка узнали все!
У меня сердце заныло.
– Разлучить хотят? – спрашиваю.
– Не бойся, не печалься! – уговаривает. А на самом лица нету.
Сели мы рядышком и наплакались вволю тогда.
– Как же нам быть-то, Саша? – спрашивает.
– Тебе знать, – говорю, – тебе и решать.
– Эх Саша, Саша! Что я решу! Меня тоска, меня сомненье пугливое берет! Что делать – не знаю! Скажи ты…
– Да что? – говорю. – Уж как ты не надумаешь, уж как ты не знаешь…
– Ты, Саша, на меня не смотри и меня не осуди: сам я себе не рад, ей-богу! Все я боюсь…
– Чего ж боишься?
– Да уж с детства так. Отец-то у меня суровый был и строг. Забил он меня и запугал. Вот и теперь еще все мне его голос слышится: «Не храбрись ты ни в чем: беду наживешь! Иди по дорожке хитро да тихо – хорошо будет!» – Я ведь и тебя-то обмануть сбирался, Саша; обмануть хотел и потом бросить, – ты прости меня! Не бросил: сил не было, потому что полюбил крепко… Скажи, Саша, скажи, что делать? Мучусь я, и голова кругом идет… Ох, Саша, если б можно мне было жениться на тебе!
– Женись, – говорю.
– А люди-то что скажут? Подумай-ка, Саша, как люди-то напустятся, – дядя, жена его злая еще пуще, – все! Все родные! Заклюют они нас, Саша! Умер бы я теперь с радостью!
И заплакал сам.
– Ну, умрем, коли хочешь, – говорю.
Он все плачет. И долго плакал. Встал потом и уверенно так говорит:
– Нет, Саша, грех умереть от своей руки! Будь что будет – женюсь я на тебе! Женюсь… Бог с ними со всеми! Что они мне? Чего бояться их? Женюсь, да и заживем с тобой!
Поцеловал меня и весел пошел себе.
XIII
Воротилась я домой – кличет меня ключница к барыне, сама злобно посмеивается: это она все барыне рассказала. Я пошла. Много тогда я наслушалась слов всяких, но до сердца те слова мне не дошли, – не оттого ли, что уж я знала их, ожидала… Я стояла перед барыней, слушала крик, и грозьбу, и брань, вот словно то далекий колокол гудел. Он у меня перед глазами носился, и все мне прояснялось кругом.
Целую ночь ту я глаз не свела, – думала, думала… Чего-то не передумала я тогда!
Утром господа чай пили, – вошел он. Я не ждала, что так рано он придет к ним. Я испугалась. Вижу, что и он не спал: бледный такой и усталый. Поглядел на меня, и тогда глаза у него блеснули, и отважный такой показался мне.
Господа удивились. Барыня неласково, сурово спросила:
– Что это значит? Откуда? Зачем?
Барин встал и по комнате стал ходить, потом опять сел.
А он все отважно им отвечает:
– Я пришел к вам с просьбою… Саша…
А барин его перебил:
– Да ну, ну, бог простит! Только смотри, чтоб вперед ты не глупил!
– Я не знаю, где совесть-то у твоего племянничка! – вскрикнула барыня. – Еще и разговоры об этом заводит!
– Да ведь от покорности, душенька; хочет прощенье получить от тебя, – говорит барин.
И заспорили меж собою. Спорят, а ему сказать слова не дадут.
Я-то все слышу и вижу из-за двери. Вижу, что он уж теряется, подбегает к ним, схватил их за руки и на колени сам упал.
– Отдайте мне Сашу, отдайте!
– Как? Что? Что?
И не поймут никак, что он говорит; вскочили, покраснели…
– Сашу отдайте! Я жениться на ней хочу!
– Жениться! – кричит барыня. – Ты с ума сходишь? Да ты помешался! Да ты пропадешь! Ты погибнешь! Да тебя всякий добрый человек на порог не пустит!. Как ты уживешься с простой девкой, с грубою, с глупою?
А барин курит, курит, – едва голова видна в дыму, и все покрикивает:
– Вот сумасшедший! Ах, наказал господь!
А он:
– Отдайте мне Сашу! – сам краешек барынина платья целует и за руки ее ловит. – Что ж, разве у простой девушки сердце не любит? Все мы равны перед богом, тетенька! Отдайте мне Сашу! Я умру без нее! Без нее я на свете жить не хочу!
Слушаю я, и жалко мне его стало!
– Пустите! – вырывается барыня. – Отстаньте! Как вы смеете со мною так говорить! Я не отдам девку! Что хотите делайте – не отдам! Подите прочь! Прочь!
Так он и упал рыдаючи. А барин ходит, да курит, да охает.
– Сашка! – крикнула вдруг барыня.
Я вошла. Она схватила со стола ножницы и кивнула мне, чтоб я подошла к ней, – я подошла. Она рванула мои косы – и стричь меня. Одну косу отрезала, на другой ножницы сломала. У самой у ней руки дрожат – рассержена.
Барин смотрит, остановился с трубкой. И он смотрит на нее, на меня, да только плачет слезно… А мне чего-то словно холодно стало, – вот будто какой-то ветер холодный обвеял меня и все от меня разнес далеко. Велит барыня мне рассыпанные, раскиданные волосы собрать и высылает меня.
Собрала я косы и вышла. Что ж? Я его добро; волен он был дать им меня. Только зачем же он отдал-то?
XIV
Барыня меня с того времени не велела спускать с глаз. Ключнице-то хлопот было! Недосыпала – все за мною следила. Только я шаг ступлю – за мной крик: «Куда? Куда?» И долго я его не видала. Не видала, и рада тому была. Вот, словно б я его совсем разлюбила. Не то что сердита я была, не то что обижена, а словно разлюбила, – не надо мне его.