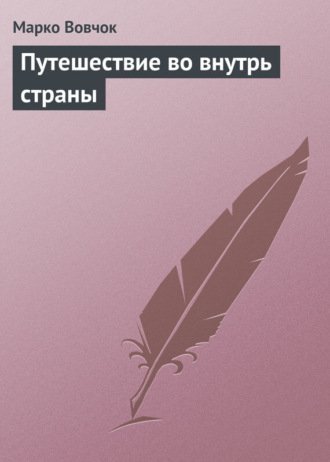
Марко Вовчок
Путешествие во внутрь страны
– Вы не понимаете, что позорно есть апельсины, когда вон та старуха, глядите, глядите, – вон идет она!
И черноглазая девица толкает его к окну.
Он выглядывает из окна и говорит:
– Вижу-с, вижу-с!
– Когда та старуха едва тащится!
– Как-с? Позорно-с?
– Да, позорно! Понимаете, стыдно, совестно!
– Нет-с, не стыдно и не совестно-с. Даже нисколько-с.
– Нисколько?!
– Нисколько-с. Потому я в этой старухе не виноват-с.
– Все мы виноваты!
– Может, вы-с, а я не виноват-с!
– Говорю вам, все, все виноваты! Понимаете вы – все!
Андрей Иванов улыбается и, поглаживая бородку, возражает:
– Не могу этому верить-с. Вдруг какая-нибудь бродяга-с, и вдруг все виноваты! Не могу верить-с!
– Да поймите же, наконец…
– Сударыня! – вдруг отзывается косматая голова. – Вы рассыпали бисер!
Черноглазая девица обертывается и с удивлением резко спрашивает:
– Какой бисер? Где бисер?
– Вы рассыпали бисер, – повторяет косматая голова, выразительно глядя ей в лицо. – Я сам видел, как покатились бисеринки вот к их ногам.
И косматая голова кивает на Андрея Иванова.
Андрей Иванов нагибается, некоторое время шарит по полу, затем поднимается, встряхивает волосами, с которых брызгает помада, подозрительно взглядывает на косматую голову и усаживается на месте.
Черноглазая девица улыбается и говорит:
– Ах, и в самом деле я просыпала!
Затем погружается в невеселые думы, что можно видеть по ее живому, выразительно говорящему лицу.
Раздается последний звонок. На опустелой платформе видны золотые очки под руку с каким-то гладко выбритым, словно выскобленным, розовым подбородком благородных размеров и пухлости.
Золотые очки перебегают по окнам вагонов, очевидно, отыскивая что-то интересное.
Подбородок говорит:
– Где ж она? Нет? Ну, пойдемте, – может быть, она где-нибудь там в третьем… бог с ней! Вы знаете, у нас Aline с мужем. Как похорошела! Персик! Пойдемте!
– Погодите! Погодите! Я вам говорю, прелесть! Вот она!
И золотые очки указывают на черноглазую девицу.
Подбородок остается доволен.
– Да! – говорит он. – Да! Вы разговорились с ней?
– Некогда было! Ведь это своего рода скала.
– А говорили, что все нигилистки уроды! – замечает подбородок, приподнимаясь на цыпочки для полнейшего обозрения обсуждаемого предмета.
– Нет правила без исключения! – отвечают золотые очки.
– И, кажется, довольно чистенькая, а?
– Ничего. Жаль, что я дал слово Катерине Ивановне. Я бы поехал с ней до Москвы!
– Энтузиаст! – смеется подбородок.
– Вами любуются-с! – уведомляет Андрей Иванов черноглазую девицу.
– Что? – спрашивает она, поднимая голову.
– В восторги от вас приходят-с. Извольте взглянуть-с!
Она взглядывает, потом с омерзением отворачивается.
– Барышни всегда притворщицы-с! – с хихиканьем говорит Андрей Иванов, намекая на выказанное ею презрение к приходящим в восторги.
– Перестаньте говорить глупости! – замечает черноглазая девица.
– Помилуйте-с, какие ж глупости-с…
Третий звонок. Поезд шипит, свистит и двигается.
Скоро исчезает из глаз пассажиров и платформа, и золотые очки под руку с подбородком, и переставные лавочки с прогорклыми, сухими, пыльными снедями, и сама станция с претензией на архитектуру.
Опять поля. Несколько ярче и гуще зелень, но все-таки очень плоха. Мелькают по сторонам более или менее чахлые кусты; то там, то сям поднимаются вдали крупные коршуны и описывают широкие медленные круги в воздухе. Еще дальше на тропинках, ведущих куда-то в деревни, время от времени чернеется, как муравей, какой-нибудь прохожий мужик или прохожая баба.
Жар усиливается, пыль все больше и больше набивается в вагоны. Небо неприятного голубовато-серого цвета, как оно изображается на вышитых гарусом подушках над головой турка в чалме или охотника в узорчатом патронташе.
– Ма-а-туш-шки! Вот жаротва-то приперла! – слышится из вагона.
Андрей Иванов, отирая пот с лоснящегося лба, заводит разговор.
– Тепло-с! – начинает он, обращаясь к черноглазой девице.
Черноглазая девица, невзирая на его умильную улыбку, не дает никакого ответа на его справедливое заявление о теплоте.
– Напрасно вы изволите на меня обижаться-с, – продолжает он. – Мне это прискорбно-с! Я…
– Оставьте меня в покое, – прерывает его черноглазая девица.
Она берет книгу, отыскивает страницу и принимается за чтение.
Андрей Иванов краснеет и обидчиво возражает:
– Не постигаю-с! Не могу даже постигнуть-с!
Косматая голова переходит на свободное место против «москвича», который только скашивает на нее глаза, но прямо не взглядывает.
Андрей Иванов, желая, вероятно, показать, что его пренебрежение черноглазой девицы мало трогает, обращается к косматой голове:
– Далеко изволите ехать-с?
– В деревню.
– По найму-с?
– Нет, без найма.
– А! В гости, стало быть. К помещикам-с?
– К родителям.
– А! Вы в Питере каким это делом занимаетесь?
– Живу у дяди.
– А дядя-то в каком положении-с?
– Служит.
– Гм! И хорошо-с?
– Ничего.
– Много получает-с?
– Тысяч четыреста в год.
– Что-о-о-с? Да он кто ж такой-с?
– Он…
Тут косматая голова выговаривает такую важную и известную фамилию, что Андрей Иванов изменяется в лице. «Москвич» заметно вздрагивает, и даже черноглазая девица переводит глаза с книги на него.
Только не шевелится украинка, которая все остается с закрытыми глазами.
– Шутите-с? – произносит, именно не говорит, а произносит Андрей Иванов.
«Москвич» внимательно оглядывает косматую голову с ног до маковки.
Этот осмотр его, по-видимому, успокаивает.
– Что за шутки! – отвечает косматая голова.
– Родной дяденька-с?
– Самый родной. Родней и не бывает.
«Москвич» не произносит ни слова возражения, но глаза его неподвижно устремляются на грудь косматой головы, на те именно места, где остаются признаки отсутствующих пуговиц на потертом пиджаке.
– Да, – говорит косматая голова, – да! Провинился я перед дядюшкой! Вообразите, картежничал семь суток! Проиграл пятьдесят тысяч, лошадей, часы – все!
– Ах, несчастье-с какое примерное! – вскрикивает Андрей Иванов.
Это его восклицание совершенно не похоже на все предыдущие. В нем слышится что-то похожее на заискивающий визг маленькой шавки, очутившейся перед большим, хотя и облитым из кухни горячей водою, водолазом или другим каким большим псом.
«Москвич» пока ничего не выражает словесно, но глаза его умасливаются и он, подобно гелиотропу, обращающемуся невольно к солнцу, оборачивается к племяннику «дяди».
Черноглазая девица опять принимается за чтение.
Впрочем, время от времени она поглядывает на косматую голову и на подвижном лице ее ясно тогда читается: как однако же можно ошибиться!
Духота невыносимая. Андрею Иванову хочется до смерти почать апельсин, который чуть не испекся в его мясистой руке, но он считает недозволительным делать это при племяннике важного лица и потому только вертит этим плодом.
– Фу, какая жара! – говорит косматая голова.
– Мучительная, – отвечает с чувством «москвич». – Жажда мучит…
– Да, скверно!
– Нельзя ли у кондуктора воды достать, как вы думаете?
«Москвич» в этих простых, казалось бы, словах искусно выражает что-то особое, – «симпатию душ», как говорится еще в Москве.
– Не угодно ли? – робко спрашивает Андрей Иванов, снова воздвигая свой апельсин на три перста и представляя его «племяннику».
– Спасибо, – отвечает благосклонно тот, берет апельсин, чистит, первый кусочек кладет себе в рот, второй протягивает черноглазой девице, кивком приглашая ее принять участие в пиршестве.
Рука его, вытянувшись во всю длину, обнаруживает распоротый шов рукава.
Но это уже не шокирует ни «москвича», ни Андрея Иванова, потому что ведь шов распоролся не от нужды и горя, а от размаха широкой русской натуры, той натуры, которая особенно хорошо развивается на «собственных» полях нашей обширной родины.
Черноглазая девица взглядывает и резко говорит:
– Не хочу!
– Напрасно! – замечает косматая голова. – Напрасно.
Только что он успевает съесть апельсин, «москвич» предлагает ему тонкую сигару.
И сколько симпатии он при этом выражает одним склонением своего грузного, но гибкого туловища!
– Кажется, недурна, – говорит он задушевным голосом.
– А вот увидим! – отвечает косматая голова. – Очень обязан.
– Огню!
– Очень признателен!
Оба начинают курить.
– У вас настоящая русская размашистая натура! – говорит как-то из груди «москвич». – Одна из тех натур, что как степь необозримая…
Поезд останавливается. Опять суета, давка, шум и крик.
Косматая голова встает, направляется к выходу, приостанавливается на пороге и, не выпуская сигары изо рта, говорит:
– А ведь *** мне не родной дядя!
Андрей Иванов поднимает вверх клинообразную бородку, «москвич» покрывается тенью.
– И даже совсем не дядя, – прибавляет жестокая косматая голова, – я не картежничал, я только нахвастал, и имя мне не степь необозримая, а – ничто.
И он скрывается.
Андрей Иванов, придя в себя, разражается потоком оскорбительных прозвищ. «Москвич» до того взбешен, что язык у него как бы отнимается.
Зато как торжествует черноглазая девица!
Даже украинка просыпается.
В вагон входит дама в дорогом шиньоне и изящном летнем туалете, с книжкой в руках, так сказать, дама безличная, хотя и обладает она довольно некрасивым лицом.
За дамой входит еще коренастый молодой человек в каком-то, по всем признакам, модном сюртучке: лацканы в виде распяленных крыльев летучей мыши, сердцеобразный вырез на груди являет тонкую, накрахмаленную колом рубашку с буфами; на руках светло-лиловые перчатки, на голове шотландская шапочка, галстук яркий полосатый, вид, хотя дикий, но вместе с тем довольно самоуверенный, глазки узенькие, подбородок тупой.
Если бы молодые вепри одевались в модные костюмы и ездили по Николаевской железной дороге, они имели бы совершенно то же выражение морды.
Рассаживаются по местам. Дама открывает книгу, судя по формату, французский роман; молодой человек вынимает из кармана надушенный платок и нюхает.
Даму книга, однако, мало занимает; она высовывается из окна и начинает следить за снующими по платформе фигурами.
Поезд трогается.
«Москвич», несколько успокоившись, оглядывает новоприбывших подозрительно.
Вдруг лицо его просветлевает. Он вскрикивает:
– Помпей Петрович! Вы ли это?
И протягивает обе руки к господину с лацканами наподобие крыльев летучей мыши.
– Ах! – отвечает Помпей Петрович. – Ах, Павел Иларионович! Как приятно!
– Куда бог несет?
– В Москву.
– Очень рад, очень рад. Прямо ко мне обедать. Слышите? Прямо!
– Благодарю вас. Непременно. Я долгом почту, и это такой приятный долг…
– Спасибо, спасибо, милейший! Как счастлив ваш батюшка, что вы не похожи на нынешнюю молодежь!
При словах «нынешняя молодежь» Помпея Петровича всего передергивает, и глазки его вдруг начинают наливаться кровью.
– Да, счастлив он, счастлив! – повторяет «москвич» с глубоким вздохом, изгоняющим целую струю пыли из вагона. – Помните: на вас одних, непричастных царствующему теперь нравственному разврату, покоятся судьбы отечества и все святые предания старины, завещанные нам могучими нашими дедами! Ужасно, что́ теперь у нас совершается!
– Да, ужасно! – отвечает Помпей Петрович. – Мужики развращены так, что ничего нельзя устроить. Я хотел сделать улучшения… улучшения… Ничего невозможно устроить!
– Бедный народ! Он не виноват! Он ведь как чистый младенец: злодей завертывает его в свою порочную мантию, а он ясно улыбается и не провидит растлевающего прикосновения нечистых рук!
– Вы смотрите на народ так… так… Вы представляете себе его таким… таким добрым, потому что вы не живете в деревне! – возражает Помпей Петрович, свирепея и по мере этой одолевающей свирепости как бы прихрюкивая. – Поживите вы с народом, так скажете другое! Такого мошенничества нигде больше не сыщете! Вор на воре, разбойник на разбойнике! Ничего нельзя устроить у себя в собственном имении!.







