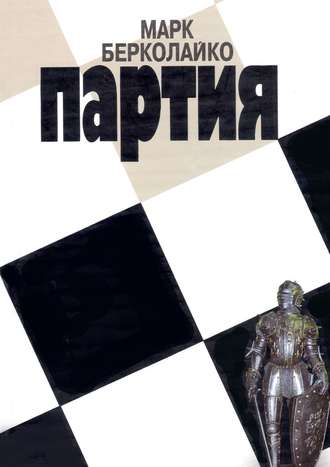
Марк Берколайко
Партия
– Как же ты отвечаешь на этот вопрос, Марк Юний?
– Пока служить Цезарю… помочь ему закончить гражданскую войну.
– И это после того, как помогал Помпею, пока у него были шансы?… Ну-ну… Завтра я с несколькими кораблями поплыву к твоему приятелю, Кассию.
– Это опасно. Цезарь. Кассий командует огромным флотом Помпея и командует решительно.
– Ничуть не опасно, Марк. Мне надо лишь успеть заговорить с ним и взглянуть ему в глаза. Боги дали мне такую силу, что никто из смертных не может ей противостоять. Но, знаешь ли, боги любят смеяться. Иногда даже хохотать. Дав мне невиданную силу, поместили ее в никудышное тело. Поразили странной болезнью; врачи называют ее комициальной…
– Так твои припадки – не вымысел?
– Все начинается с хохота богов. Он звучит в ушах – тихо, потом все громче, потом в глазах темнеет и я сотрясаюсь, хохочу вместе с богами… Над чем? – хотел бы я однажды понять. Но никогда не пойму, потому что после припадка ничего не помню, только ужасно болит голова. Я победил свое никудышное тело, истязал его тяжелейшими упражнениями, спал на повозке или голой земле; под дождем ли, снегом ли, в мороз ли, в жару – все равно. Теперь я провожу на коне дни и ночи, в рукопашной могу одолеть десятерых. Я самый неприхотливый и выносливый солдат во всей Ойкумене… но в любую минуту могу вместе с богами забиться в судорогах хохота. Как ты думаешь, над чем они смеются?
Что это? Брут, кажется, смотрит на него с жалостью? Он осмеливается смотреть на него с жалостью?!
– Я преклоняюсь перед тобой, Гай Юлий! Ах, если бы ты преклонялся перед идеалами Республики!
– Оставь в покое идеалы, Марк! Они не помешали свершиться двум опустошительным гражданским войнам. И если я не выстрою прочную систему единоличного правления, то будет и третья такая война, и седьмая, и десятая. Хочешь сохранить Рим, помогай мне. Будучи квестором в Киликии, ты удачно спекулировал, хорошо пощипал тамошних земледельцев, накидывая на официальные налоги еще пятьдесят процентов в пользу своего кошелька. Идеалы Республики этому не препятствовали – и прекрасно! Теперь ты богат и неподкупен. Однако я подкупаю тебя не деньгами, а честью быть лучшим помощником Цезаря. И еще. Молва твердит, что ты – мой сын. Ты веришь в это?
– Да.
– Тем не менее, сражался против меня. А ведь по приказу Помпея был убит и твой отец… твой законный отец.
Брут остался совершенно спокоен, хотя конечно же услышал, сколько угрозы в голосе победителя.
– Ладно… Все это – в прошлом. Только богам известно, был ли ты зачат тогда, когда мы с твоей матерью любили друг друга. Но для меня гораздо важнее – солдат ты или слабак. Ради крошечной возможности сохранить гражданский мир я отдал свою дочь Юлию замуж за Помпея. Она умерла, моя драгоценная, моя единственная. Но даже если б она была сейчас жива, я громил бы Помпея так же безжалостно.
Перед битвой я приказал своим центурионам не причинять тебе ни малейшего вреда. Чего бы это ни стоило… Не Боги позволили тебе уцелеть и отсидеться в камышах фарсальских болот – не Боги и не Фортуна, а я и мои солдаты. Но такую слабость я могу себе позволить лишь единожды. Помни это.
Двадцать три человека, все вооружены. На первый взгляд – безнадежно. На второй и сотый – тоже. Так что же, не идти в сенат? Нет, не годится… надо как-то выиграть время, ограничить их возможность ударить наверняка… Что-то такое сказал ему Брут, когда они расставались под Фарсалом… Какую-то важную фразу… Ага! «Ты невероятно смел и удачлив, Цезарь, но все время нападаешь и мало заботишься о защите. Советую тебе никогда не снимать доспехи».
Занятно! Брут, разумеется, эти слова помнит, а потому… Потому, потому… Допустим, на нем будет необычно просторная тога, со многими складками. Доспехов под ней (к сожалению) не будет – могут случайно обнаружить и понять, что он знал о предстоящем нападении, подготовился к нему – значит, они нападали не на беззащитного… Но создать видимость… так развернуть плечи, будто они схвачены тяжелыми боевыми латами, прикрывающими грудь и живот. Тогда Брут велит остальным мерзавцам бить в шею… или в пах, или сзади. Нет, они хоть и ничтожества, но все же патриции – удары в пах и спину постыдны. Значит, только в шею. Значит, будут суетиться, толкаться, мешать друг другу.
Есть, есть шанс продержаться!
– Бальб, предупреди наших в сенате, что готовится драчка. Они увидят всех, кто на меня нападет, пусть будут наготове, ждут моей команды «К оружию!» – и тогда рубят. Никто не должен остаться в живых; Антонию я приказываю убить Гая Требония и перекрыть выход из курии. Ты кинешь мне меч, и десяток я изрублю лично.
– Гай, тебя убьют до того, как ты скомандуешь.
– Помолчи!
…Но они могут занервничать и не решатся напасть. Значит, нужно заставить решиться.
– И еще. Сенатор Попилий Лена на каждом заседании выпрашивает у меня какие-нибудь подачки. Передай ему, пусть соберет все свои просьбы в кучу, сегодня я удовлетворю его полностью. Но при двух условиях. До моего появления он должен с таинственным видом подойти к Бруту и Кассию и сказать, что желает им успеха. Но лишь только я войду в курию, пусть отведет меня в сторону и начнет просить. И все время при этом посматривает в их сторону. Потом я скажу громко: «Нет, мне трудно в это поверить!» и пойду к своему креслу.
– Цезарь, я подчинялся тебе во всем и беспрекословно. Но ничего этого делать не буду.
– Еще с полчаса, пока я окончательно все взвешу – не будешь. А потом, если велю, сделаешь все в точности.
– Гай, тебе надоела жизнь – отвори себе вены. Но не иди на заклание.
– Хорошо, Корнелий, оставь меня, побудь в соседнем зале. Я тебя скоро позову.
Бальб вышел, а Цезарь прилег на неудобное ложе – специально сделанное неудобным, чтобы напоминать о походных ночлегах, когда так хорошо думается под перекличку часовых и уютное ржание лошадей, когда быстрые, четкие мысли с ладностью хорошо пригнанных камней укладывались одна к другой, и возводили очередной прочный дом на фундаменте, называемом «Цезарь повелел!»
Но сейчас надо собраться, выпить вина, сегодня совсем безвкусного – и выбрать всего лишь из двух вариантов. Это такой редкий подарок богов: выбор всего лишь из двух вариантов!
Думать о себе надо без уязвимого, беззащитного «Я». Думать в третьем лице, как диктовал свои записки о галльских войнах, о гражданской войне. Когда в месиве крови, жадности и предательства, в фарше изрубленных тел барахтается некто «Цезарь», не имеющий будто бы никакого отношения к его собственному, никудышному, замученному ранами и эпилепсией телу.
Надо вообразить, что скачет, заложив, по своему обыкновению, руки за спину, управляя конем лишь коленями – и диктует сразу трем секретарям.
Первому. «У Цезаря были только две возможности. Пойти в сенат. Побудить заговорщиков напасть на себя. Проявить все свое искусство рукопашного боя…»
Второму. «Или, сказавшись больным, не пойти в сенат. Отсидеться дома всего только три дня. Потом выступить в парфянский поход, понимая, что справиться с Парфией быстрее, чем за два-три года – не удастся…»
Третьему. «Цезарь вспомнил, как его, совсем еще молодого офицера, послали за кораблями к вифинскому царю Никомеду, и у юноши возникло влечение к зрелому, исполненному мужества варвару».
Первому. «… продержаться безоружному, не получив тяжких ранений, до тех пор, пока остальные сенаторы придут в себя от ужаса, вызванного творящимся на их глазах злодеянием».
Второму. «За время похода, назначая вожаков заговора на важные должности в разных концах государства, разобщить их, дать время одуматься – а не одумаются, так и передушить поодиночке. Брута при этом – с собой в Парфию».
Третьему. «Никомед быстро заметил нежные взгляды, которые бросал на него Цезарь. Он призвал его в свои покои; но когда не по-мужски разряженный юноша предстал перед ним, то царь не поспешил приласкать влюбленного, а сказал: «Подумай, юнец, кто ты: настоящий солдат или слабак. Если солдат, то никакие шалости с тобой невозможны – солдату приказывают, солдата убивают, но солдата не используют. Ну, а если не солдат, то я охотно использую тебя и твой тощенький задок».
Первому. «Верные сторонники Цезаря разом обезглавят оппозицию, эту свору вознесенных диктатором, неблагодарных людишек. И народ Рима поддержит такое очищение от скверны: Цезарь даст очередной массовый пир с бесплатным вином, хлебом и миногами и отправится в очередной победоносный поход, расширяя владения Рима. Деморализованный сенат наречет Цезаря царем и основателем династии – и с прогнившей Республикой будет, наконец, покончено».
Второму. «Победив парфян, Цезарь с триумфом вернется в Рим, даст несколько массовых пиров с бесплатным вином, хлебом и миногами и добьется от разобщенных сенаторов наречения его царем и основателем Династии. Таким образом, обе возможности приводят к нужному результату, только в первом, переполненном опасностью случае, Рим сам – и очень быстро – смастерит царский трон, а во втором Цезарю придется мастерить его медленно и кропотливо. Возможно, что и безуспешно, если разгромить парфян вообще не удастся».
Третьему. «И тогда Цезарь принял решение: он – солдат, он будет солдатом при любых опасностях. Он будет героем, ибо только герою боги дают такое сжигающее желание быть им».
– Бальб!
И когда тот вошел, диктатор, скинув тогу и оставшись в тунике, разминался.
– Цезарь, я…
– Да, Корнелий, ты, конечно же, категорически против, это написано на твоей физиономии. Вижу, принимаю во внимание, ценю. (Дыхание не сбивается, а ведь почти пятьдесят шесть лет; ай, да старичок! хотя муж его тетки – боготворимый полководец Марий – в семьдесят лет учил фехтовать подростка Гая и гонял его, как зайца…) Скажи-ка лучше, какие условия выдвигает наш идеалист Брут?
Ох, как Бальб расцвел! Появилась надежда на торг. А торговаться банкир диктатора, ведающий попутно его безопасностью, умел. Отжимал все до сестерция.
– Он хочет стать твоим приемным сыном и официальным наследником. Вместо Октавиана. Думаю, это надо обсуждать. Затянуть переговоры на три дня, потом выехать в армию. Уж там-то никто и не помыслит причинить тебе вред. Можно даже взять с собой Брута и посылать его в самые опасные места.
– Значит, торговаться?
– Торговаться, Гай.
– А потом удрать?
– Не удрать, а вовремя ускользнуть от безнадежного боя.
– Или сторговаться с Брутом?
– И это можно. Какая разница, кого усыновлять? Лично мне все равно, кто станет твоим наследником.
– Ты не прав. Октавиан – не просто мой племянник. Он стоит десяти Брутов. Не исключено, что и двоих Цезарей.
Забавно! Он, кажется, почти повторил слова Суллы. Когда тот одолел Мария и принялся уничтожать его сторонников, то Цезарь, хоть и был совсем еще молод, попал в проскрипционные списки одним из первых – мало того, что родственник поверженного противника, так вдобавок демонстративно отказался развестись со своей первой женой, дочерью Цинны, заклятого врага Суллы. Родственники Гая буквально вымолили пощаду для него, но первый римский диктатор тогда в сердцах сказал: «Ладно, пусть живет, хотя в одном Цезаре таится много Мариев».
И ведь прав оказался, ох, как прав!
– Все, Бальб, прекращаем разговоры. Исполняй. И не хнычь, у тебя абсолютно выигрышная позиция. Если я уцелею, твое могущество возрастет многократно. Если погибну, ты сбежишь на родину, в свой семитский город Кадис, и будешь всем рассказывать, что оказался дальновиднее самого Цезаря. Ступай!
…А что случилось бы с Римом завтра, если б сегодня Цезарь, подобно Сулле, отказался от всех своих должностей? Боги! Самое обидное, что вполне могло бы ничего нового и не случиться! Обрадованный Цицерон в очередной раз решит, что его звездный час вернулся. Он произнесет еще две-три речи – конечно же, для истории: напишет еще два-три длинных письма своему другу, аграрному магнату Аттику, а тот письма сохранит – опять же для истории. Тем временем Брут, Кассий и прочие мерзавцы будут болтать о необходимости действовать немедленно и энергично, и дождутся, что всех их отправит в царство мертвых решительный (и туповатый) Марк Антоний. А его, в свою очередь, отправит туда же решительный, не по годам умный Октавиан. Теперь – официальный сын и наследник.
Скучно, когда будущее так предсказуемо! Но каков мерзавец Брут! Хочет, видите ли, стать единоличным властелином. Как будто Цезарь, в поисках наилучшего выбора, не предлагал усыновление никому, кроме Октавиана. Ведь даже Дециму Бруту, потеющему сейчас в зале, предлагал! И все, как один, вернее, как одно многоголовое ничтожество – раздувались от внезапно обретенной значимости и произносили – нет! – вещали: «Благодарю тебя, божественный, за эту высокую честь!»
А Октавиан съежился, стал еще скромнее и прошелестел: «Ты предлагаешь мне трудную работу, дядя…» Так кому же еще передавать власть, как не этому юному мудрецу?!
Бруту он, конечно же, такое предложение не делал. Хотя бы потому (и Брут сам бы мог это понять, если б не был таким ничтожеством), что усыновление того, кого толпа именует цезаревым бастардом, почти уже де-юре означает признание его матери, Сервилии, сестры сурового моралиста Катона, всего-навсего шлюхой.
Кроме того, власть в руках бастарда всегда выглядит украденной.
Но все же, чему стоит посвятить остаток жизни, если сегодня отказаться от всех должностей: пожизненного диктатора, пожизненного императора5, Великого понтифика? Писать воспоминания? Уже не интересно.
Разве что женщинам? Сплетничают, что счастливчик Цезарь покорил тридцать племен и покрыл двести женщин. Сам он, разумеется, не считал, но само сочетание: тридцать и двести, – нет той гармонии чисел, которой поклонялся грек Пифагор, в которую так верят иудеи. Тридцать и триста звучит гораздо слаженней. Две центурии самок, добродетельных, целомудренных, разнузданных, распутных – он уже уложил. Вдруг, подлинный мастер древнейшего единоборства, успел бы уложить и третью?
Вошла Кальпурния, и Цезарь устыдился своих игривых мыслей. Лицо жены опухло от слез, она искренне горевала – холодная матрона… бедная детка… бедная бездетная детка… Только первая его жена родила ему дочь, которую он вынужден был швырнуть на ложе этого ничтожества, Помпея. А вторая и третья жены – бездетны… А Клеопатра родила сына… Как все причудливо, боги!
– Гай, – дрожащим голосом заговорила Кальпурния, всегда такая невозмутимая, хорошо усвоившая, что жена полубога любима полубогом только до тех пор, пока попадается ему на глаза как можно реже. – Гай, такой сон не может не быть вещим! Рушился наш дом, и из мраморной статуи Юпитера хлестала кровь.
– Это означает только то, милая, что боги готовы отдать за мою победу свою животворящую кровь. А дом рушился оттого, что давно стал нам тесен. Скоро мы выстроим другой, достойный нас, посреди моих садов.
– Но мы совершили жертвоприношение, и у вскрытого животного не оказалось сердца!
– Этого не может быть! Совсем не оказалось?
– Совсем, Гай, ни малейшего намека.
– Так и это доброе предзнаменование! Животное без сердца менее уязвимо, стало быть, и я в безопасности более чем когда-либо.
…Нашелся, выкрутился, однако собственное сердце выскочило из груди, так что жрецы, рассеки ее сейчас, гоже заголосили бы о чуде. Ну, Бальб, это же надо так постараться!
– Гай, это все отговорки, чтобы меня успокоить! Останься дома, умоляю!
– Кальпурния, ты же знаешь, что после смерти дочери никого роднее тебя у меня нет. Разве пошел бы я в сенат, зная, что это по-настоящему опасно, что ты будешь волноваться? Я пробуду там недолго, вернусь до вечерней зари и проведу с тобой, только с тобой три дня и три ночи. Мы будем гулять, ужинать вдвоем, любить друг друга… Такого в нашей с тобой жизни еще не бывало, не правда ли?
Он гладил ее волосы, приговаривал милые необязательности, утешал или прощался, на всякий случай… и, как всегда, удивлялся, что Кальпурния столько лет влюбленно терпит его долгие походы, его похождения, демонстративный приезд в Рим Клеопатры с сыном, названным так красноречиво – Цезарионом; и пышную встречу, которую устроил им Цезарь, и бесчисленные ночи, которые он провел с Клеопатрой – всего в полусотне стадий от собственного дома, куда часто не возвращался даже по утрам.
Неужели жена так беззаветно его любит? Или, поклонница стихов покойного Катулла, повторяет вслед за ним: «… ненавижу и все же люблю!»?
Катулл писал это развратной неврастеничке Клодии, помыкавшей поэтом, но готовой по первому едва слышному зову прибежать на ложе к нему, Цезарю. Он и подзывал ее изредка: когда во время очередной охоты за выборной должностью стервенел, покупая голоса ненасытного плебса – и ему необходимо было разрядиться грубым наскоком на столь же ненасытное тело аристократичной гетеры. И каждый раз после короткой случки недоумевал: «Что тут любить? А что ненавидеть? Ну, уж, в конце концов, любишь – владей; ненавидишь – убей!»
Но, может быть, страстный слабак Катулл, да и его собственная многотерпеливая жена, знают что-то такое, что ему знать не дано?
Жаль, он не успел задать Катуллу ноющий, как давние раны, вопрос: «Над чем смеются боги?»
– Децим, а ведь ты… – вскричал Цезарь и сделал паузу, чтобы подчиненный домыслил: «… ведь ты в числе заговорщиков!» Похоже, тот именно так и домыслил, стал совсем уж неприлично бледен и потлив; рука его потянулась к мечу. Скорее всего, решил, раз все раскрылось, покончить с собой прямо здесь, на глазах у диктатора. В более спокойной обстановке стоило бы полюбоваться, как протыкает себе грудь незадачливый заговорщик, но сейчас это было явно лишним.
– …Я хочу сказать, Децим, что ты стал выглядеть гораздо лучше. Вино и жаровня сотворили чудо. Кстати, еще одно чудо: Бальб впервые в жизни собрал неверные сведения, никаким заговором и не пахнет. Иду в сенат; ты был прав – пропустить заседание и через три дня выступить на Парфию… выглядит как обидный для сенаторов и не присущий мне экспромт. Так что поспеши, сообщи, я скоро буду.
Сказано ровно то, что должно. Децим Брут передаст Марку, что Цезарь не верит в заговор, отмахивается от предсказаний, но через три дня покидает Рим. Самое время напасть!
Пошатываясь от пережитого, Децим вышел, а диктатор неторопливо собрал вощеные дощечки для записей, с которыми никогда не расставался, выбрал самый длинный и острый грифель – в умелых руках тоже орудие! – и оглядел зал, пытаясь сосредоточиться.
Но взгляд ни на чем не задерживался: ни на старых этрусских вазах, ни на клетке, в которой дремали вывезенные из лесов Галлии соловьи; ни на чашах, нетерпеливо зовущих струи терпкого вина. Мозг словно накрывало теплое одеяло – и так всегда бывало в последнюю минуту перед драчкой, в самую последнюю минуту тишины. Когда расплывался рельеф поля битвы, лишались четких контуров ряды войск – все это плавало в тумане, даже если освещалось жгущим солнцем.
Это потом зрение обретало удесятеренную остроту, мозг тасовал тысячи деталей и выдавал единственные решения: куда ударить кавалерии, когда вводить резерв, в какое место кинуться самому – и рубиться до умопомрачения, подхлестывая дрогнувшие когорты.
Но в ту последнюю минуту тишины всегда виделось одно и то же – покои Никомеда, его пухлые, алые губы, выплюнувшие: «Ты – или солдат или слабак»: то самое «или-или», что швыряло потом Цезаря с одной тяжкой войны на следующую, еще более тяжкую: с одной проткнувшей небо вершины – на другую, еще более дерзновенную.
Перед вечерней зарей мартовских ид пятьдесят шестого года своей жизни, покачиваясь в носилках на пути в курию Помпея Великого, где проходили заседания сената, диктатор пытался припомнить те часы – да что там часы! – хотя бы мельчайшие доли их, когда его исчерченное шрамами тело томилось бы так же нетерпеливо, как сейчас. Пытался припомнить – и не мог, а значит, к оружию! Даже если оружие – только грифель, а из всех его легионов – только собственное тело.
И он быстро провел «смотр» своего малого войска.
«Ноги?»
И подрагиванием железных икр те ответили: «Готовы! Готовы сплясать последний, быть может, танец».
«Торс?»
И теплотой, разлившейся по спине и груди, тот ответил: «Готов! Готов быть увертливым, как ящерица».
«Руки? Вам в бой – последним, как любимому десятому легиону, сборищу самых бесшабашных ветеранов, распевающих похабные песенки о бравом вояке, лысом развратнике, обожаемом везунчике Цезаре».
И мгновенным натяжением свободных от жира, выносливых мышц те ответили: «Готовы! Мы врубимся, как десятый – неудержимо».
…Перед вечерней зарей мартовских ид пятьдесят шестого года своей жизни, немного неуклюже – ведь латы под чересчур просторной тогой должны стеснять движения, не правда ли, Брут? – вылез из носилок и направился к помпезному входу в курию Помпея Великого суровый диктатор, лысый развратник, неизменный везунчик Цезарь. Направился на самую славную свою драчку – один против двадцати трех.
Перед входом в курию толпились просители, зеваки-горожане и зеваки-провинциалы, совсем недавно, в результате цезаревых реформ, получившие римское гражданство. Даже просто слова: «диктатор», «сенат» – были им еще в новинку, а уж возможность лицезреть легендарного диктатора на площади сената была сравнима с еще одной печатью на документе, подтверждающем обретение гордого звания «римлянин». Приветствовали они Цезаря горячо и бескорыстно – и «Аве, Цезарь!» звучало громко и слаженно.
Просители кинулись к диктатору, но, к немалому его удивлению, всех опередил Артемидор, грек, знаменитый ритор и эстет, приглашенный Цезарем в Рим дать Октавиану несколько уроков красноречия.
Грек протянул диктатору свиток и прошептал:
– Прочти немедленно, Цезарь, и возвращайся домой!
Цезарь развернул пергамент, прочитал первую фразу: «Держись подальше от Марка Брута, Кассия и Каски…» и едва удержался, чтоб не вскрикнуть: «Спасибо, но как это некстати!» Однако в этот момент его окружили просящие и страждущие; он с утешительными: «Рассмотрю внимательно!», «Постараюсь помочь!» передавал прошения секретарям, затесав среди прочих свитков и свиток Артемидора.
А голову лихорадил вопрос: откуда грек знает? Неужели эти ничтожества не умеют скрывать даже те замыслы, что им же и самим грозят смертью?!. И туда же, рвутся решать судьбы Римского мира, почти тридцати миллионов человек!.. Наверняка красовались перед заезжим ритором, в их глазах – апологетом великой эллинской демократии; наверняка рассуждали об идеалах Республики, о ненависти к тирании; о том, что убийство Цезаря, их благодетеля – вовсе не предательство, но славный подвиг во имя свободы.
И более всех, конечно же, распинался фразер Брут – торгаш, ростовщик, вороватый сборщик налогов. Доносчик.
Но какая им всем оплеуха – «апологет великой эллинской демократии» предупреждает «тирана»; и именно о готовящемся предательстве, а не о грядущем «подвиге во имя свободы»!
И незачем было так долго колебаться: покончить с этой шайкой сразу или бороться долго и изобретательно. Только сразу! Одним махом!
…В портале курии Требоний что-то говорил Марку Антонию. Гигант Марк подал знак, что все знает и Требоний ведет рассказ последний раз в жизни.
А неподалеку от них стоял сумрачный гаруспик Спуринн – тот самый, предсказавший Цезарю большую беду в день мартовских ид.
– Привет тебе, Спуринн, великий прорицатель! – весело крикнул диктатор. – Заметь, что мартовские иды пришли, а я невредим.
– Пришли, но не прошли! – мрачно ответствовал жрец.
…«Пришли, но не прошли…» Хорошо сказано. Ладная фраза. Наверняка станет расхожей.
Цезарь так старался идти медленно, чуть ли не путаясь в чересчур просторной тоге, чуть ли не сгибаясь под тяжестью доспехов – что на ступеньках курии и вправду споткнулся.
– Это плохая примета, император! Вернись!
Голос Артемидора. Надо как-то откликнуться.
И Цезарь, обернувшись, сказал звучно, перекрывая тревожный гул толпы:
– Для правителя есть только одна плохая примета – утеря доверия сограждан!
Тоже неплохо сказано; оцени, друг Артемидор! Завидуй, недруг Цицерон!
Провожаемый восторженными кликами «Аве, Цезарь!», пожизненный диктатор, пожизненный император, Великий понтифик вошел в зал заседаний и вскинул над плечом вытянутую правую руку.
И все сенаторы, поднявшись, повторили приветствие, но небольшая их часть вытянула вперед и вверх не напряженно-копьевидные кисти, а сжатые кулаки.
Показывая, что готовы.
Показывая, что не только неутомимые ноги, гибкий Торс и разящие руки Цезаря – но и они тоже часть войска, готового вознести везунчика на самую высокую его вершину.
Как и было задумано, к диктатору подскочил сенатор Лена с россыпью просьб: помочь ему самому, его сыну, племяннику, зятю, приятелю зятя… деньги, должности, деньги… Запомнить это было невовзможно, проще выдать жуликоватому толстяку миллион-два сестерциев и насытить до следующих ид. Скорее все же два, а не один, потому как уж очень артистично сенатор взглядывал на стоящую неподалеку группу из двадцати трех; уж очень натурально устремлял потную от жадности ладошку в сторону многозначительно надутых тираноборческих рож. От этого рожи становились еще многозначительнее и обменивались гримасами, долженствующими означать: «Все раскрыто! Все пропало! Осталось только умереть красиво, здесь же, бросившись грудью на заготовленные для диктатора мечи».
Но погодите немного, славные сыны Рима, умерьте суицидальные порывы, диктатор поможет вам умереть чуть позже, но некрасиво. Уж так некрасиво, что заседания сената в курии Помпея проводиться больше не будут – слишком свежа будет память о том, как умирали двадцать три славных сына Рима, барахтаясь в собственной крови, моче и кале.
– Нет, нет, сенатор, я никогда не смогу в это поверить! Ведь все они – достойнейшие, клянусь богами, люди! – громко, чтобы услышали, воскликнул, наконец, Цезарь и, отстранив Лену, направился к своему креслу, сделанному по настоянию подобострастного сената из чистого золота.
«Достойнейшие люди» разом облегченно выдохнули – так, что по курии даже пронесся легкий ветерок, пристроились за диктатором изготовившимся эскортом, а Луций Киллий Кимвр затараторил о страдающем ревматизмом, подагрой, депрессией и поносами, сосланном брате.
Так дошли до кресла. Цезарь уселся, Кимвр и большая группа заговорщиков остались перед ним, а несколько человек расположились за креслом. Сбоку, поближе к нему, Гай Сервилий Каска. С другой стороны – его брат, Публий.
Кимвр все расписывал мучения несчастного изгнанника, приближался к диктатору – и встал, наконец, так, что живот его оказался на расстоянии доброго пинка.
Цезарь захотел еще немного выждать, однако понял, что это желание – не что иное, как нерешительность.
А поняв, рассердился на себя.
А рассердившись, сказал резко:
– Кимвр, я никогда не просил снисхождения для себя, так зачем мне быть снисходительным к таким, как твой брат?! Ступай на место, пора начинать заседание!
И тут Кимвр вцепился в край тоги диктатора и сильно потянул. «Обнажает шею! – понял Цезарь. – Все, как я предвидел…»
И вскричал:
– Это уже насилие!
Движенье слева… Каска!.. Началось… Отпрянуть… Отлично… Кинжал лишь царапнул шею.
– Каска, негодяй, что ты делаешь?!
Проклятье! На мгновение запоздал с рывком в противоположную сторону. И кинжал Публия Каски ударил над правой ключицей. Глубоко. Проворонил. Собраться. И!..
В невероятном сочленении разнонаправленных движений:
Выпад грифелем. Попал: Публий Каска вскрикнул и отпрянул.
Пинок в живот Кимвра. Попал: тот охнул и сломался надвое.
Торс! Есть! Мышцы застонали.
Но! в воздухе; высвободил обе руки: и!
И встал в двух шагах от кресла! А те, кто стоял сзади, были вынуждены потратить секунды, чтобы, толкаясь, обежать массивное сооружение. Благие секунды безопасности сзади! Вперед! Выпад. Попал. Еще. Попал. Отступили. Слабаки! Взяли в круг. Выставили перед собой мечи и кинжалы. Звать своих? Нет. Еще чуть-чуть. Вертеться. «Ноги, не подведите!» – «Пляшем! Никогда еще так не плясали!» Вертеться. Держать на дистанции. Грифелем в вытянутой руке. Взглядом. Голосом.
– Мерзавцы! Я возвеличил вас, предатели! Неблагодарные твари!
Ага! Замерли! Слабаки, ничтожества. Сукины дети. Пусть даже. Одна из сук. Понесла от него же.
А вот и он! Марк Брут! Смотри в глаза. Сынок. Щенок.
И во взгляде его Цезарь увидел мольбу: «Не хочу убивать! Позови на помощь!»
И готовность – если позовет – разметать всех. И защитить. И оградить…
А потом зализать его раны дрожащим от счастья, мокрым, теплым языком.
Теплая кровь бежит из раны. Слабею. Позвать на помощь, но не этого щенка. Своих. Преданных. Они готовы. Ждут команды.
И, не отрывая взгляд от смятенных глаз Брута, набрав в грудь воздуха столько, что показалось – пережалась рана, и кровь перестала бежать, Цезарь закричал…
Но не «К оружию!», как намеревался – а совсем другое:
– И ты, Брут?! – Потом с издевкой. Еще громче. Словно была нужда переорать рев кошмарной драчки. – Д-и-и-т-я мое!
Ударил. В пах. В пах?! Патриций – патриция, которого считает отцом? Смешно… Слабо ударил – меч проник неглубоко, но ноги дрогнули. Держаться. Слабо ударил. Слабо. Слабак. Смешно… Почему смешно?! Ведь не время! О, боги, боги, не надо сейчас хохотать. Пожалуйста!
Но, хохот в ушах стал громким невыносимо, в глазах потемнело… Упал.
И последним усилием оттянул тогу до пят, чтобы не видны были судорожно пляшущие ноги.
И за-предельным, за-последним усилием накрыл лицо, чтобы невидимо для всех успеть – пока не истечет кровью – всласть посмеяться вместе с богами.
Но над чем? Боги, над чем?..
Толпились вокруг лежащего диктатора. Мешали друг другу. Ранили друг друга.
Наносили удар за ударом – и тело отвечало судорогами, почти не слабеющими.
Наконец, прекратилось. Отметился каждый.
Остальные сенаторы разбежались. И преданные, так и не дождавшись команды — тоже. И Марк Антоний. И Балъб.
Убегая, силились понять: как может быть, что Цезарь, победоносный Цезарь — вдруг застыл окровавленной кучей на полу курии Помпея Великого, у ног статуи Помпея Великого?
Которого громил так волшебно легко.
Словно издеваясь над вполне заслуженным титулом «Великий».
Словно утверждая, что нет в подлунии ничего подлинно великого.
Кроме разве что него самого — лысого развратника, неизменного везунчика…
А Яхве сделал сильнейший ход. И вскрыл вертикаль «с». И получил позиционный перевес.
Потому что на вопрос: «Пойдет ли Цезарь в сенат?»
Он ответил:
– Да.
А я возразил:
– Нет.


