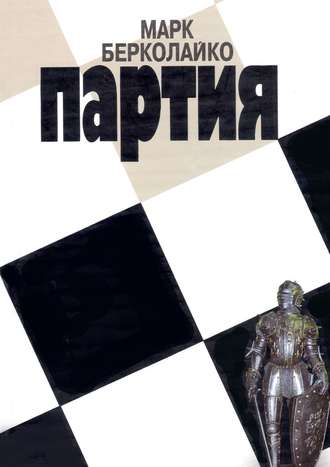
Марк Берколайко
Партия
– Господин Бруткевич! Георгий Георгиевич! – в третий, наверное, раз повторял детский голос. – Мама сказала, что вы с огромным удовольствием сыграете со мной в шахматы…
…А фигура у ведьмы оказалась первоклассной. И глупо было, ни разу ее толком не разглядев, городить защитные бастионы: мол, раз бабенка злая и визгливая, то все у нее не так. Зато теперь хотелось разглядывать не спеш… хотелось коснуться плеча, но так, чтобы она не подумала, будто он – похотливый старый козел; а еще лучше, чтобы поняла, как по-рыцарски сдерживаемое вожделение украшает настоящего мужчину.
…Стоп! Надо сосредоточиться на шахматах. Тем паче, что девчонка уверенно, явно с пониманием, разыграла дебют. До школы ходила, видимо, в спецсад, где языкам, манерам и шахматам учат чуть ли не с ясельного возраста; да и школа, скорее всего, не простая.
– Вы, Георгий Георгиевич, вместо того, чтобы меня исподтишка разглядывать, на доску бы внимательнее смотрели, – очень к месту подала голос язва-мамаша, проклятие, нависшее над Бруткевичем и его проектом, Мария Литвинова, собкор разухабистой московской газеты «Наш день». – Моя Мунька – не просто Мунька, а вундеркинд. Всего девять лет, а уже перворазрядница, некоторых мастеров поколачивает. А у вас, насколько я помню, никакого разряда по шахматам нет.
Бруткевич побагровел, словно его застукали крутящимся у дверей женской раздевалки. Но и подобрался, еще раз ощутив, что противник ему попался безжалостный и без тормозов. А значит, долой чистоплюйские бредни о благородном вожделении; значит, куда уместнее уставиться откровенно и нагло, например, на грудь… или на плоский, даже впалый, словно и не выносивший ребенка живот… или ниже, туда, где резинка трусиков натянулась, где образовалась щель, в которую так и тянет заглянуть. И, пробираясь взглядом в эту щель, он ответил как можно саркастичнее:
– Мария, дорогая, вы так наглядно демонстрируете свои прелести, что разглядывать их исподтишка – все равно, что голодному довольствоваться запахами ресторанной кухни, в то время как в зале для него уже расставлены закуски. Кстати, за столь подробную обо мне информацию дорого заплатили? А то могли бы сэкономить, я сам бы, не чинясь, много рассказал.
– Браво, Георгий Георгиевич, вы все же умница! Только пусть ваше голодное «альтер эго» на горячее не рассчитывает. Придется обойтись легкими закусками, которые выставляются на шведский стол. За информацию дорого не платим. С нами, знаете ли, охотно делятся. Мы ведь отдушина для тех, у кого злость булькает, кто особенно хорошо засыпает, если власть накануне была хоть разочек, но обосрана. Могу, кстати, справочку о вас процитировать, а вы подтвердите, все ли точно.
– Валяйте! – пробурчал Бруткевич.
– Валяю! – по-пионерски звонко откликнулась Мария. – Итак! Бруткевич Георгий Георгиевич, родился в Москве, в мае 1947 года. Мать – пианистка, профессор Московской консерватории. Отец – инженер-экономист, всю жизнь проработал на автозаводе имени Сталина, потом имени Молотова, потом имени Лихачева. Георгий – единственный ребенок, назван в честь предка, командовавшего уланским полком во время войны 12-го года. Учился хорошо. Проявил способности к точным наукам, пению. Успешно занимался спортом, был реальным претендентом на олимпийское золото, но по неясным причинам в сборную Союза не попал. «Двойка боковых Бруткевича» стала устной легендой советского бокса. Окончил МГУ, геофизик. Получил распределение в закрытый НИИ, расположенный в одном из регионов Сибири, но через полгода вернулся в Москву. По слухам, после крупного скандала с директором НИИ. Что это вы, Георгий Георгиевич, то по неясным причинам в сборную не попадаете, то, по слухам, крупно скандалите. Может, поведаете в задушевной беседе?
– Нет! – отрезал Бруткевич.
– Нет, так нет. Понадобится, сами узнаем. Продолжаю. До 91-го года работал в Институте геофизики Академии наук, считался перспективным исследователем, однако карьеру не сделал. Род занятий с 91-го по 95-й год не известен. Чем занимались, Георгий Георгиевич?
– В основном извозом. И немного «челночил».
– Вот и славненько. А то я уж испугалась, что были «быком» у какого-нибудь авторитета. Продолжаю. В эти же годы его жена, малоизвестная артистка театра, и сын, недоучившийся студент, переселились в Соединенные Штаты. А что же вас с собой не взяли?
– Вы не могли бы заткнуться?!
– О личном – заткнусь. Личное – это святое. Да и неинтересное оно у вас. Гораздо интереснее, что наш объект (то есть вы) в 95-96-х годах стремительно вырос в заметного политтехнолога. Работал в основном с кандидатами, финансируемыми нефтяным концерном Ходынского. Провел шестнадцать избирательных кампаний, тринадцать выиграл. Креативен, хороший стратег. К «черному» пиару не расположен. А вот это вы зря. Георгий Георгиевич! Что за странная щепетильность? В избирательных кампаниях либо врут о своем кандидате, либо говорят правду о соперниках. По мне, черная правда всегда лучше белой лжи. Или это для вас – тоже святое. Мне опять заткнуться?
– Премного бы обязали, – чувствуя, как бьет в виски злость, ответствовал Бруткевич. – Ваши рассуждения о белом и черном меня не интересуют. Не вам говорить о добре и зле, вы явно по ту сторону от них.
– О! Вот и Ницше из гроба восстал2. Вслед за Шекспиром. Недурная подбирается компания, хотя Ницше уже не моден. Предпочтительнее что-то исконное, к примеру, Ильин.
Злость уже пульсировала в таких точках тела, которые раньше о существовании пульса и не подозревали.
Георгий уговаривал себя собраться, пытался укротить собственный взгляд, который упорно лез в узенькую щелочку; он тщился сосредоточиться на партии (а девчонка тем временем тихими ходами накапливала преимущество в центре и на королевском фланге), но…
Его обезволенный организм послушно плелся за голосом Марии, как зачарованные гамельнские крысы брели когда-то за виртуозом-дудочником.
– Вы не против, Георгий Георгиевич, если я перевернусь? А то живот обгорит, майское солнце злое. Вы ведь уже разглядели все, что хотели?
– Разумеется, переворачивайтесь, дорогая Мария, – бормотал Бруткевич, спешно укрепляя королевский фланг, поскольку центр доски был уже потерян навсегда. – Переворачивайтесь поскорее, не так ведь страшно, что живот обгорит, как то, что сердце под солнышком чуть оттает. Последствия могут быть ужасны: не приведи Господь, чувствовать что-то начнете… Что-то человеческое. А обо мне не тревожьтесь, все, что хотел, разглядел. Даже больше, чем хотел.
– О, как узок спектр ваших хотений, Георгий Георгиевич! – Мария перевернулась и одним ловким движением расстегнула лифчик, дабы на загорающей спине не оставалось белых полосок. – Насколько же он уже спектра ваших возможностей! Серый кардинал, любимец губернатора, руководитель крупнейшего аграрного проекта… Правда, проект дурно попахивает, но сами деньги отменно благоухают, не так ли?
Правда, качественная справочка? – совсем по-женски сменила она тему. – Ну, а на меня что нарыли ваши работнички службы безопасности? Ваши бодрячки-отставнички? Хорошо они выполнили ваше задание?
– Я не даю подобных заданий! – огрызнулся Георгий, мучительно изыскивая еще какие-нибудь резервы для спасения короля и собственного достоинства.
– Неужто?! – голову она держала на сложенных руках, звук голоса отражался от песка, становился глуше, оставаясь медоточиво-ненавидящим, и Георгию вдруг стало зябко под палящими лучами. – Да неужто?! Неужто они сами, без ваших руководящих указаний, разговаривали со мной так слащаво-бережно? И так мягко расспрашивали, за что я не люблю нового губернатора и вас, его лучшего друга. И смотрели на меня с таким пасторским пониманием, словно знали и мудро прощали тот прискорбный факт, что трахаться я предпочитаю «раком». Да какое там «словно»? разумеется, они изучили ту запись, где совокупляюсь с бывшим вице-губернатором прямо на губернаторском столе, осененном нашим державным триколором. Ведь вам, идеологу избирательной кампании Толоконина, наверняка рассказали об этой записи? А, может, и показали? И советовались, как ее лучше пустить в дело? Но вы, конечно, были против, сказали со снисходительным смешком, что если бабенке приспичит, то для нее и губернаторский стол – находка. Но использовать такой компромат нет смысла, дела и без этого идут хорошо.
Но не угадали, господин заметный политтехнолог, экспортер лучшего в мире дерьма, бабенке не приспичило. Просто за участие в той безнадежной кампании ей пообещали двухкомнатную квартиру. А когда кампания стала совсем провальной, я поняла: кинут, не до меня, себе остатки тянут. А тут Мерлюков сделал предложение, простое, как ситцевые трусы. Кстати, мужик он оказался вполне ничего… И на губернаторском столе, под триколором, когда в огромном здании пусто – крысы-то уже побежали – тоже, знаете, очень ничего. Да и квартиру все же дали.
– Повторяю еще раз, – с металлом в голосе произнес Бруткевич, – я никому и никогда таких заданий не давал. Про запись слышал, но именами участников не интересовался. Так что не стоит впадать в истерику Сонечки Мармеладовой, тем более, что подобные откровения в присутствии ребенка неуместны!
– Спасибо вам за заботу о моем ребенке, но Мунька, когда считает варианты, ничего не слышит. Вот, полюбуйтесь: Мунька! – громко позвала она, но девочка и вправду не шелохнулась.
– Му-у-нечка, котеночек мой! – это уже едва слышным шепотом. И тут дочь встрепенулась. И посмотрела на мать. А та – на нее. И была в их взглядах такая нерассуждающая верность, такая спокойная готовность служить друг другу до последнего вздоха, что злость Бруткевича мигом исчезла по причине полной своей неуместности, а сердце отпустило.
– Маша, – попробовал он роль голубя мира, – давайте перестанем сражаться. Хотя бы сегодня, хотя бы у озера. Что вы так горько оплакивали под моим балконом? Может быть, я сумею вам помочь? Только не думайте, бога ради, что пытаюсь вас перекупить… в смысле как журналистку.
Она долго не отвечала. Потом заговорила с такими интонациями, что Георгий понял: не будет сегодня мира, будет дуэль со смертельным исходом.
– Незачем меня перекупать… в смысле как журналистку. К июню мы с Мунькой навсегда уезжаем в Норвегию. Выхожу замуж за пожилого викинга. Через три недели уволюсь и оставлю вас и ваш дерьмодобывающий проект в покое. Спокойно очищайте фермы от навоза… или делайте вид, что очищаете. Мне уже все это будет безразлично… Вы, конечно, удивлялись, почему именно я наезжаю на вас так резко? Конечно, заказ оппозиции, конечно, «бабки». Но не такие эта гопота платит «бабки», чтобы так наезжать. Просто я вас ненавижу, Георгий Георгиевич! Хотя нет, «ненавижу» – не то слово… Представьте, что имеете возможность полностью истребить какой-нибудь вид: животных, насекомых, птиц – неважно. В общем, кого считаете особенно вредным. Кто-то скажет: комаров долой, раз они, твари, кровь сосут; кто-то: грызунов на фиг, они чуму переносят… Я бы уничтожила соловьев. Потому что заливаются они сладко, но на самом деле предупреждают, что хапнули территорию и никого другого на нее не пустят. А мы их слушаем, сопли распускаем, хотя смысл их песен вполне прост, никакой поэзии: не лезьте – заклюю! Вы ведь классический соловей. Георгий Георгиевич! От ваших звонких трелей Хафиз с ума бы сошел, Шекспир – обрыдался. Хотите сказать, что не мне вас судить? Но я ведь лучше вас. Да, когда нужно было отгрызть свою крошку, делалась бл… ю. Опять припрет – опять стану. Но никогда не облеку это в ваши соловьиные фиоритуры, каденции… как это у певунов называется?
…Ваш знаменитый проект – это беспредельный, запредельный цинизм, Сатана бы такое не придумал. А вы придумали? – браво! Хотите кормить больших начальников – черт с вами, кормите! Тянете «трохи для себэ» – тяните! Не вы, так кто-нибудь другой кормил бы и тянул, может, даже больше и наглее. Но что ж вы заливаетесь-то при этом так увлеченно, зачем все эти трели о будущем? У России нет будущего, вы это прекрасно понимаете. Есть только следующее. И несчастного народа, который вы, якобы, кинулись спасать – тоже нет. Остались профессиональные бандиты, профессиональные вертухаи и извечно никакие, те, кого называют «прочие». И что у меня с вами всеми общего? То, что бегло говорим на одном и том же языке? Да я еще на двух языках так же бегло говорю! И Россия мне никакая не Родина-мать. Она мне – Родина, твою мать! Так что я свой выбор сделала. А вы «трельте» до самого Судного дня – и бог с вами! Хотя лучше – пусть не с вами.
…Да, ревела. Потому что прощалась со страной. И с могилой матери. И с мечтой, извините за выражение. Потому что была дурой. Русской бабой. А русская баба мечтает сойти с ума от любви. Боится, знает, что от такой любви вся ее жизнь – псу под хвост… но мечтает. А я, с той самой минуты под балконом, больше не мечтаю. Отревелась – и стала норвежкой. Так что ваше «Пшла вон!» стало хорошей, весомой, жирной, вонючей точкой. Хотите – радуйтесь, хотите – обижайтесь, мне все равно!
А Бруткевич и не обижался. Он таких монологов отъезжающих наслушался досыта. К примеру, от собственной жены. Потом от собственного же сына. Нормальная нашенская психопатическая манера: никогда не признаваться, что переезжаешь на новую квартиру, потому что она комфортнее и лучше старой. Нет, исключительно потому, что старая невыносимо засрана. В чем сама же и виновата.
Откуда взялась эта манера у трезвой и расчетливой журналистки – другой вопрос. Впрочем, и ответ ясен – типичная достоевщина. Ну и пусть вместе с ней катит хоть в Норвегию, хоть в Данию, хоть в Танзанию! Лично ему сразу станет легче, когда стихнет самый громкий и злобный голос.
А что, собственно, он так боится этих голосов? Да пусть хоть весь мир визжит, что Бруткевич ворует и кого-то кормит! Он-то сам знает, что это не так! И пусть она бежит, пусть хоть вся страна последует за ней. А он не побежит, как не побежал когда-то вслед за женой и сыном, как не побежал его предок, полковник-улан, с Бородинского поля.
– Георгий Георгиевич, вам мат в пять ходов! – и Мунька снисходительно продемонстрировала, как жертвует слона, как конем и ферзем разрушает броню вокруг черного короля, как ставит мат (что особенно обидно!) пешкой.
– Спасибо, господин Бруткевич! Вы хорошо защищались, и это позволило мне закончить партию эффектной комбинацией!
Ай да парочка! Девятилетняя дочь изъясняется языком шахматных теоретиков; сумасбродная мамаша (куда делись трезвость и расчетливость?!) вопит: «Ура!» так самозабвенно, что расстегнутый лифчик почти свалился с идеальных полушарий… И вот это типично расейское безумие – в чинную, суровую Норвегию?! На родину тихого неврастеника Ибсена и певучего меланхолика Грига?! Да такой участи и Танзании не пожелаешь!
Мария сидела на своем топчане, одной рукой придерживала падающий предмет, а второй указывала за озеро, за санаторий, туда, где, по ее мнению, раскинулась пока еще беззаботная Скандинавия.
– К фиордам! К фиордам! К фиордам! К всемирной славе моей гениальной дочери! Прощайте, Георгий Георгиевич! Хотите, поминайте лихом, хотите – нет. Хотите, очищайте «немытую Россию» от навоза, хотите – засирайте дальше. Впрочем, это я уже говорила… Вы уходите? Подождите еще секунду, сделайте доброе дело. Не сочтите за интим, но не могли бы вы мне лифчик застегнуть? Тут застежки какие-то супер-навороченные… Сейчас я прилягу, чтобы не так сильно вас волновать, а вы – орудуйте. Мунька, помогай господину советами!
Застежка и вправду была замысловата. Презирая свою невесть откуда взявшуюся покорность, Георгий пытался соединить что-то с чем-то, а когда вдруг щелкнуло и сомкнулось, то против воли, здравого смысла и минимальной целесообразности осторожно положил ладонь на горячую спину.
Ладони ответила дрожь, короткая, как щелчок затвора, переведенного в положение «Огонь!».
А потом Мария вывернула голову и взглянула на Бруткевича, не жмурясь от бьющего в глаза солнца. Но лучи, скорее всего, просто обрывались у самой радужки, потому что навстречу им перемешанным потоком били изумление, неверие, ужас берлиозовского «Неужели?!».
– Вам больно? – поражаясь нелепости всего сущего, спросил Георгий.
– Нет… Уютно…
До самого вечера ничего больше не произошло. До самого вечера они не сказали друг другу ни слова. Молча, без визгов и уханий, плавали в еще холодной майской воде. Молча брели с пляжа. За обедом – очень объяснимо и совершенно необъяснима – сидели за одним столом: молча, в ответ на взгляд, передавали хлебницу, солонку или салфетки; молча, кивком, благодарили.
Мунька тоже молчала, наверное, обдумывала какой-нибудь вариант дракона в сицилианской защите.
Вечером за Георгием приехала его служебная машина, а за Марией – какой-то плечистый мужик на солидной «Тойоте». Смотрелся крупным бизнесменом, но под любым ее мимолетным взглядом суетился, как клерк, проходящий испытательный срок в очень престижной фирме.
Осталось сесть на переднее начальственное место – и уехать, чтобы день за днем, не разделяя их и не различая, бултыхаться в густом малоаппетитном вареве, которое именуется динамичной жизнью российского региона в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова.
Осталось взглянуть вслед рванувшейся «Тойоте» и поздравить себя с тем, что аравийский ураган по имени «Мария» (или «Мириам», раз уж аравийский) задел его самым краешком: только швырнул в лицо толику прокаленного песка, от которого до сих пор печет глаза.
Но она подошла к нему, и он понял, что угодил в самый центр урагана.
– Нам лучше встретиться не сразу, а… через десять дней. Мне нужно подготовиться, да и разогнать этого (небрежный кивок в сторону «Тойоты»). И вы, пожалуйста, тоже разгоните всех своих баб. Ни к чему, чтобы у нас с вами под ногами кто-то путался… Как не вовремя! Одно случайное прикосновение – и все… Вы мне ладонь на спину положили… а я, как дворняжка… которая бродила, бродила – и вдруг почувствовала руку хозяина… Бред какой-то! Отвал башки полный! Называется, отревелась, попрощалась… Но делать нечего, встретимся ровно через десять дней… Да, кстати, забыла спросить: вы меня любите?
Глава 2
Дебют. 44 год до Р. Х. Март
Смягчиться может тот,
Кто сам способен
Себе просить смягченья у других.
В. Шекспир
Конечно же, Яхве не смог себе изменить – даже играя черными, захотел диктовать свою волю: сразу же обозначил активность на ферзевом фланге, а на королевском и в центре выстроил пешечную цепь, обманчиво мирную, как вроде бы: «Нас не тронут – и мы не тронем». Люди позже назвали это вариантом дракона в сицилианской защите.
А я просто выжидал. И дождался. Лишь только Он сместил ладью и приготовился вскрыть вертикаль «с», я в первый раз воспользовался своим правом.
– Так почему же, Децим, ты считаешь, что идти в сенат необходимо?
– Великий Цезарь… пренебрежение к сенату… сегодня это неразумно.
– Именно сегодня?! Именно в день мартовских ид1 – неразумно, а, скажем, пятью днями раньше было бы в самый раз?
Децим побледнел и покрылся потом. Диктатор на расстоянии чувствовал, какой он холодный и липкий, этот пот паникующего слабака. Да, что и требовалось доказать. Цезарь давно подозревал, что его военачальник Децим Юний Брут – ничтожество, подозревал, но не отталкивал, даже обещал консульство года через два. Хотя отлично помнил, как вяло Децим командовал флотом при осаде Массилии, пока ему, Цезарю, пришлось возиться с войсками Помпея в Испании. Руководивший сухопутными силами Гай Требоний методично возводил осадные сооружения вокруг неприступного города, а Децим только рассылал во все концы моря корабли для сбора слухов: кто же побеждает на самом деле – Цезарь или Помпей?
Но Требоний… Требоний – настоящий солдат. Почему же и он в заговоре?… Ладно, об этом потом, а пока надо дожать этого потеющего слабака. Тогда, если дойдет до драки, Децим ударит со страхом, а не со злостью…
Что когда-то писал краснобай Цицерон? – и память моментально восстановила фразу, процарапанную на вощеной дощечке четким почерком оратора, давно уже пишущего и живущего исключительно ради благодарной памяти потомков: «Цезарь – ярчайший образец доброжелательного душителя2».
Вот и отлично! Надо продолжать душить, но исключительно доброжелательно.
– Децим, бедняга! Ты, по-видимому, захворал! Озяб, дрожишь. Выпей вина; хочешь, велю поставить рядом с тобой жаровню?
– Да, благодетельный Цезарь, – проблеял тот, утирая краем тоги крупные капли на узком, шишковатом лбу, – жаровня принесла бы мне облегчение. Спасибо, ты так заботлив…
– Это первейшая обязанность полководца. Посиди, погрейся, а я отлучусь ненадолго, Корнелий Бальб ждет… Вообрази, очередной заговор… меня, кажется, опять хотят убить, избавить Рим от тирана. Боги, как все это глупо! Я даже не сержусь; сам видишь, спокоен и бодр. Ведь в городе полно моих ветеранов. Стоит мне скомандовать – и они за полдня изрубят заговорщиков в фарш… Смешно… Да улыбнись же, Децим! Неужели тебе гак скверно, что не можешь улыбнуться, когда твоему командиру так смешно?.. Странно… Если тебе так скверно, то стоило ли трудиться, заходить ко мне только для того, чтобы убедить пойти на сегодняшнее заседание сената?
Стоп! Пока довольно! Прославленный храбрец, ничтожество Децим Юний Брут, родственник прославленного свободолюбца Марка Юния Брута, того и гляди, захрипит, как загнанный мерин.
Быстрее! Быстрота – главное оружие Цезаря, и он пронесся по внутреннему двору, перистилю, так стремительно, что раб-нумидиец поклонился не ему, а вихрю, вызванному перемещением некрупного тела.
Многие вот так же склонялись вслед ветру «Цезарь», вихрю «Цезарь», буре «Цезарь». Потом, когда наступало затишье, распрямлялись, начинали кричать о бесценности свободы, о своем – и только о своем – праве на исконные земли и богатства, но вновь налетала буря, и звучание знаменитого имени вновь заставляло повиноваться.
А вот Корнелий Бальб лишь коротко кивнул в ответ на энергичное приветствие полководца. Да и зачем ему, олигарху, знающему все тайны Рима, демонстрировать преданность, если много лет назад, с той самой первой команды – «к оружию!» – которую при штурме Митилен выкрикнул молоденький офицерик Гай из древнейшего рода Юлиев, Бальб понял, что Цезарь – первый, а для всех иных смертных счет начинается с тысячи. Теперь несметно богатый Корнелий постарел, погрузнел, стал раздражающе медлителен, но волшебным образом поспевал за молниеносной мыслью диктатора.
– Итак?
– Всего их – двадцать четыре. Убийство будет ритуальным, каждый нанесет по удару. Кроме Гая Требония.
– Отказался?
– Вызвался задержать Марка Антония у входа в курию.
…Ничтожества! Слабаки! Боятся, что они с силачом Антонием, встав спина к спине, станут неуязвимы. А без Антония он один, по их разумению, будет хнычущей жертвой?! Ха!.. Но Требоний, стало быть, не хочет обнажать меч против своего полководца. Он во всеуслышание называет себя республиканцем, но нутром понимает, что настоящий солдат не может служить такой Республике. Однако ж вполне может подчиниться Року, если Рок сам как-нибудь убьет Цезаря. Немного демагогично для солдата, зато позволит «честному вояке» сохранить самоуважение.
– А что Децим Брут?
– Ему поручено уговорить тебя пойти в сенат. Они опасаются, что ты, против обыкновения, прислушаешься к прорицателям.
К прорицателям?! Ах да, это же гаруспик Спуринн предсказал ему смерть в мартовские иды. Очень кстати…
– Бальб, скажи Кальпурнии, что я напуган ее тревожным сном и гаданием Спуринна и велел совершить еще жертвоприношение. Проследи, чтобы при вскрытии животного обнаружили что-то очень для меня неблагоприятное.
– Цезарь, зачем? И так ведь все ясно. Скомандуй, и к полудню все заговорщики будут уничтожены!
– А к закату будут оплакиваться как жертвы моей подозрительности и трусости. Через три дня я выступаю против парфян. Нужен надежный тыл, а в Городе будут судачить, что Цезарь – не богами ниспосланный правитель, а боящийся заговоров старик… Ступай! Нет, погоди. Еще раз перечисли самых опасных заговорщиков3.
– Возглавляют, как ты и предвидел, Гай Кассий Лонгин и Марк Юний Брут.
Они воистину прелестны, эти бравые помпеянцы! Им же, Цезарем, прощенные и обласканные! Оба назначены преторами. Оба – будущие консулы. Оба, к сожалению, ничтожества: и Брут, к еще большему сожалению – в первую очередь.
Что за несчастная судьба у счастливца Цезаря – возиться с ничтожествами! Хотя Кассий вроде бы неплохо сражался во время неудачного похода Красса на парфян. Но зато спустя несколько лет трусливо и напыщенно сдался победоносному Цезарю вместе со всем огромным флотом Помпея. Может быть, это его и гложет: держал Цезаря в руках, а теперь из рук Цезаря вынужден кормиться должностями?
Любопытный разговор с Брутом состоялся после Фарсала. Помпей тогда удрал в Египет навстречу позорной смерти, достойной такого слабака, как он. А уцелевший Марк Юний прибыл с повинной в лагерь победителя… Потом! Воспоминания потом! Хотя Фарсал всегда приятно вспомнить, славная была драчка!
– Гай Требоний. Децим Юний Брут. Гай Сервилий Каска. Он будет бить первым.
Каска беден, преисполнен самомнения, а потому завидует всему миру, особенно таким, как Цезарь. Кроме того, должен ему много денег… Слабак! Странно, что вызвался бить первым. Но ударит плохо. Как слабак.
– Его брат, Публий Сервилий Каска…
Что один брат, что второй…
– Сервилий Сульпиций Гальба. Луций Мануций Басил…
И эти туда же! Оба – его легаты. И хорошие легаты. Гальба ему тоже сильно задолжал. Понятно, что проще зарезать кредитора, чем расплатиться, но все же обидно. Они – солдаты, сумеют ударить хорошо, но… но ударят нехотя, понадеются на удары других.
– Луций Киллий Кимвр. Будет, чтобы отвлечь твое внимание, долго просить вернуть из ссылки брата.
Боги, какой дурак! Этому-то чего не хватает? В прошлом году был претором, в следующем должен стать наместником Вифинии. Стало быть, спешит. Спешит отхватить побольше и побыстрее. Как стареющая куртизанка…
– А Цицерон?!
– Цицерон ничего не знает о заговоре.
– Это невозможно!
– Диктатор, Цицерон пребывает в тоске по былому величию, но о заговоре ничего не знает.
– Бальб, ты постарел и поглупел.
– Диктатор, сведения абсолютно точны: Цицерон ничего…
– Абсолютно точных сведений в природе не существует! Задумать убить тирана во имя идеалов Республики – и не привлечь Цицерона?!
– Они хотят после твоей смерти ненадолго сделать Цицерона диктатором.
– Все равно чушь! Тебе подсовывают идиотскую чушь! Кто твой осведомитель?
– Цезарь, я дал ему слово, что открою имя только тогда, когда ты согласишься обсудить его условия. Ты согласен?
– Корнелий, посмотри мне в глаза. Кто твой осведомитель?
– Цезарь, молю тебя…
– Корнелий, а я просто прошу…
– Марк Юний Брут.
Боги! Боги! О, если б он умел хохотать, как они! Брут— прямой потомок основателя Республики; Брут, который развелся с красавицей женой, чтобы жениться на уродине Порции, дочери ревнителя республиканских традиций Катона; Брут, суровый и чистый, как одеяние весталки, возглавил заговор – и донес на заговорщиков?! Как шумит в ушах… Это боги начинают хохотать… над чем в этот раз? Над ним, Цезарем, считающим себя знатоком людей?…
– Цезарь, во имя Геркулеса, что с тобой? Припадок?!
– Не кричи, Корнелий,. у меня шумит в ушах от хохота богов. Ты лучше шепчи, богов ведь невозможно перекричать… а к твоему шепоту они прислушаются – и замолчат. Повтори еще раз, мне на ухо, тихим-тихим шепотом: кто твой осведомитель?
Исполнительный Бальб сотворил из своих мясистых губ узкие окаменевшие полоски и зашептал так тихо, что не слышал, наверное, самого себя. Меха-легкие почти замерли в его борцовской груди – и гласные влетали в ухо Цезаря на столь слабых струйках воздуха, что умирали сразу же. Но согласные прорывались через каменные полоски губ, прорывались долго, с трудом, а прорвавшись, разворачивались в имя: в полное скрытой угрозы «м», в азартное «р», в бравурное «б».
Так ветераны Цезаря просачивались при Фарсале в тыл помпеевой кавалерии – малыми группками, вроде бы случайно – а потом вдруг сомкнули строй!
Какая веселая получилась драчка!
С моря дул свежий ветерок, дышать было легко. Не то, что днем, когда смрад фарсальских болот и тысяч погребальных костров отбивал охоту есть, двигаться и жить.
Марк Юний Брут дышал прерывисто, волнение мешало ему говорить, а он старался быть красноречивым, произносил длинные фразы, и Цезарю тоже приходилось прибегать к этому нелюбимому им строю речи. Он еще в юности понял: хочешь подчинить собеседника – говори, как он, жестикулируй, как он, дыши, как он. И частое дыхание, прерываемое глубокими вдохами, позволяло ему сейчас полнее наслаждаться юношеской свежестью морского ветерка.
– Традиции рода, Марк, вещь обоюдоострая: да, они дают тебе уверенность в решениях и поступках, ибо за тобой череда славных деяний предков; но с другой стороны, ты незаметно для самого себя начинаешь кутаться в традиции, как в плащ, и перестаешь чувствовать Хронос.
– Я, Цезарь, верен не традициям рода, а идеалам Республики, которые выше не только деяний и принципов предков, не только самого Юпитера – прости, Великий понтифик4, если я кощунствую – но и выше Хроноса. Ни одно царство не могло устоять перед Римом, как бы ни был талантлив царь и храбры его воины, и не мощь Рима побеждала, не дисциплина римских легионов – это Фортуна благоволила идеалам Республики, это Боги склонялись перед идеалами Республики.
– Марк, ты мог бы стать настоящим солдатом, так не становись демагогом. Они пышно расцветают, но увядают быстро. Мы с твоим тезкой, Цицероном, обучались красноречию у одних учителей, с почти одинаковым успехом. Но он, в отличие от меня, солдата, стал оратором. Не спорю, великим оратором, получил титул «Отца отечества» – а потом, словно мимоходом, был выброшен на политическую помойку ничтожным авантюристом Клодием.
– Но за ничтожным авантюристом Клодием стояли огромные деньги Красса и огромное влияние Цезаря.
– А почему же за Цицероном не стояли ничьи деньги и влияние? Почему он поддержал Помпея, а не меня? Где гражданское чутье «Отца отечества»? Где его чувство Хроноса? Почему, наконец, я не воспеваю идеалы Республики, а воюя, наполняю ее казну галльскими богатствами и британской данью? Что ж это за идеалы, которые нуждаются в завоеваниях Цезаря, не верящего в идеалы?
– Ты хороший полемист, Цезарь, и величайший гений войны со времен Александра Македонского. Но ты и величайший циник, а потому люди никогда не будут верны тебе по-настоящему. Ты постоянно будешь воевать, чтобы развращать Республику все более богатыми трофеями, и истинные патриоты Рима когда-нибудь всерьез задумаются: «Что делать: служить Цезарю, чтобы выиграть очередную войну, или убить Цезаря, чтобы надолго обеспечить мир?»


